
Толкования
.doc
Т олкования
«трагического катарсиса» Аристотеля
так многочисленны, что давно уже сами
по себе сделались предметом изучения
и классификации 1. Основной особенностью
этих толкований, на наш взгляд, является
их двойственное отношение к толкуемому
тексту: с одной стороны, определенное
тяготение к эмансипации от «Поэтики»,
с другой — неспособность сделать эту
эмансипацию окончательной. Действительно,
«Поэтика» конспективна и формальна —
толкования многословны и в большинстве
случаев задушевны 2, «Поэтика» даже и в
нормативных своих частях основывается
на текстах трагедий — толкования
основываются на одной фразе «Поэтики»,
а прочий материал привлекают произвольно,
причем трагедии могут не использоваться
совсем или использоваться крайне
ограниченно. Все это можно рассматривать
как тяготение к эмансипации, к превращению
толкования в оригинальный текст,
соприкасающийся с «Поэтикой» точечно
— в пределах одного термина. Если бы
эта тенденция достигла полного развития,
то в этой небольшой и чисто филологической
заметке почти не пришлось бы обращаться
к так называемой «истории вопроса».
Однако даже самые самостоятельные
интерпретаторы не рвут окончательно
связи с «Поэтикой»: цитируют знаменитую
фразу из VI главы, проявляют особое
внимание к предпочитаемому также и
Аристотелем мифу об Эдипе, часто
используют слово «трагический» — иначе
говоря, остаются все же в рамках
толкования. Характерный пример указанной
двойственности — последнее из известных
нам исследований катарсиса, предпринятое
в работе Т. А. Флоренской 3. Статья
посвящена психологии познания и вполне
соответствует духу и направлению того
интересного сборника, в котором
опубликована и который вряд ли может
включать толкования «Поэтики». Однако
Флоренская приводит роковую фразу о
страхе и жалости, затем оговаривает,
что «при всей своей емкости, этот
фрагмент не может послужить нам для
формулировки определения катарсиса
уже потому, что нельзя при этом обойти
его многочисленные толкования», затем
приводит толкования, а завершает статью
определением катарсиса как осознания
и словами о «трагическом катарсисе,
воплощенном в судьбе Эдипа». И вот, хотя
статья написана о «расширении границ
индивидуального сознания до всеобщего»,
она оказывается все-таки еще и очередным
толкованием «Поэтики», а между тем если
бы вместо «катарсис — это осознание»
было написано «определим осознание как
катарсис» и вместо «момент катарсиса
— это состояние внутренней упорядоченности»
было написано «состояние внутренней
упорядоченности может быть названо
моментом катарсиса», то двойственность
была бы устранена, познание было бы само
по себе, а «
олкования
«трагического катарсиса» Аристотеля
так многочисленны, что давно уже сами
по себе сделались предметом изучения
и классификации 1. Основной особенностью
этих толкований, на наш взгляд, является
их двойственное отношение к толкуемому
тексту: с одной стороны, определенное
тяготение к эмансипации от «Поэтики»,
с другой — неспособность сделать эту
эмансипацию окончательной. Действительно,
«Поэтика» конспективна и формальна —
толкования многословны и в большинстве
случаев задушевны 2, «Поэтика» даже и в
нормативных своих частях основывается
на текстах трагедий — толкования
основываются на одной фразе «Поэтики»,
а прочий материал привлекают произвольно,
причем трагедии могут не использоваться
совсем или использоваться крайне
ограниченно. Все это можно рассматривать
как тяготение к эмансипации, к превращению
толкования в оригинальный текст,
соприкасающийся с «Поэтикой» точечно
— в пределах одного термина. Если бы
эта тенденция достигла полного развития,
то в этой небольшой и чисто филологической
заметке почти не пришлось бы обращаться
к так называемой «истории вопроса».
Однако даже самые самостоятельные
интерпретаторы не рвут окончательно
связи с «Поэтикой»: цитируют знаменитую
фразу из VI главы, проявляют особое
внимание к предпочитаемому также и
Аристотелем мифу об Эдипе, часто
используют слово «трагический» — иначе
говоря, остаются все же в рамках
толкования. Характерный пример указанной
двойственности — последнее из известных
нам исследований катарсиса, предпринятое
в работе Т. А. Флоренской 3. Статья
посвящена психологии познания и вполне
соответствует духу и направлению того
интересного сборника, в котором
опубликована и который вряд ли может
включать толкования «Поэтики». Однако
Флоренская приводит роковую фразу о
страхе и жалости, затем оговаривает,
что «при всей своей емкости, этот
фрагмент не может послужить нам для
формулировки определения катарсиса
уже потому, что нельзя при этом обойти
его многочисленные толкования», затем
приводит толкования, а завершает статью
определением катарсиса как осознания
и словами о «трагическом катарсисе,
воплощенном в судьбе Эдипа». И вот, хотя
статья написана о «расширении границ
индивидуального сознания до всеобщего»,
она оказывается все-таки еще и очередным
толкованием «Поэтики», а между тем если
бы вместо «катарсис — это осознание»
было написано «определим осознание как
катарсис» и вместо «момент катарсиса
— это состояние внутренней упорядоченности»
было написано «состояние внутренней
упорядоченности может быть названо
моментом катарсиса», то двойственность
была бы устранена, познание было бы само
по себе, а « Поэтика»
сама по себе, поскольку катарсис перестал
бы быть толкуемым термином.
Поэтика»
сама по себе, поскольку катарсис перестал
бы быть толкуемым термином.
Возникает впечатление, что здесь мы сталкиваемся с каким-то парадоксом в истории науки: оригинальные исследователи, резко снижая уровень притязаний, выдают себя за толкователей — совершенно в духе средневековой традиции, когда престиж толкуемого текста определял престиж трактата. В наше время такой вторичный престиж обеспечивается только сверхзначимыми текстами. Относится ли «Поэтика» к их числу? Вряд ли. Ни «Поэтика», ни «Послание к Пизонам», ни «Поэтическое искусство» для современной культуры не престижны ввиду своей нормативности. Все интерпретации «Поэтики», кроме толкований катарсиса, остаются в рамках классической филологии и теории литературы, отнюдь не выделяясь особой значимостью. Остается предположить, что сверхпрестижем обладает лишь небольшой фрагмент VI главы: и это — на первый взгляд нелепое — предположение неожиданно подтверждается.
Так, например, о катарсисе Аристотель пишет не только в «Поэтике», но и в «Политике» — даже более подробно. Ниже этот параграф «Политики» будет проанализирован, а сейчас отметим только, что он привлекается к решению проблемы катарсиса реже, чем это было бы естественно, хотя катарсис «Политики» гораздо ближе большинству толкований, чем катарсис «Поэтики». Такое предпочтение — явный признак престижности текста. Другой признак — известное пренебрежение толкователей катарсиса «Поэтикой» в целом и теми исследованиями «Поэтики», в которых катарсису не отводится исключительного места. Так, в монографии Элса «Поэтика Аристотеля» утверждается, что выделение катарсиса в основную категорию неправомерно, ибо не находит подкрепления в трудах Аристотеля, и что равно неправомерно предпочтительное внимание к «Эдипу», поскольку столь же образцовой трагедией Аристотель полагал мелодраматическую «Ифигению в Тавриде» 4. Все это представляется очевидным при самом поверхностном чтении «Поэтики»: действительно, очень уж не похоже на Аристотеля говорить об основной категории вскользь, да и об «Ифигении» написано ясно и определенно. Казалось бы, основательная работа Элса должна повлиять на «катартические» исследования, однако же не повлияла: туманная фраза VI главы сохранила свой сверх-престиж и сравнительно со всей остальной «Поэтикой», и сравнительно с «Политикой», и — тем более — сравнительно с филологическими разысканиями Элса. Более того, под сомнение ставится даже предпосылка, что Аристотель хотел выразить нечто определенное — это отменяет множественность противоречивых толкований, между тем как «взятые вместе, существующие теории помогают увидеть богатство идей, столь лаконично выраженных подчас в „Поэтике"» 5. Так текст Аристотеля из объекта исследования обращается в повод для рефлексии.
 Именно
в этом и заключается необычайная
значимость VI главы — она может быть
поводом для спекуляций медицинских,
психологических, мифологических,
этических и еще самых разных, будучи в
то же время их обоснованием, своего рода
консервативной фикцией. В таком культурном
контексте филологическое обращение к
катарсису «Поэтики» не вполне прилично
— филологический анализ неизбежно
связан с цитированием, цитирование
обнаруживает, что перед нами поэтика
нормативная, нормативная поэтика не
может быть туманной ни в какой своей
части, и катарсис должен оказаться не
сложнее всего остального, а остальное
не слишком сложно, хотя не всегда
привычно. И все-таки такой анализ мы
позволим себе предложить читателю.
Именно
в этом и заключается необычайная
значимость VI главы — она может быть
поводом для спекуляций медицинских,
психологических, мифологических,
этических и еще самых разных, будучи в
то же время их обоснованием, своего рода
консервативной фикцией. В таком культурном
контексте филологическое обращение к
катарсису «Поэтики» не вполне прилично
— филологический анализ неизбежно
связан с цитированием, цитирование
обнаруживает, что перед нами поэтика
нормативная, нормативная поэтика не
может быть туманной ни в какой своей
части, и катарсис должен оказаться не
сложнее всего остального, а остальное
не слишком сложно, хотя не всегда
привычно. И все-таки такой анализ мы
позволим себе предложить читателю.
Представляется
целесообразным прежде всего обратиться
к тем параграфам «Политики», где речь
идет о катарсисе, поскольку этот пассаж
в явном или неявном виде (через Бернайса)
послужил источником многих толкований
6. Итак, назвав в числе назначений музыки
очистительное, Аристотель далее поясняет
(Polit. VIII, 7, 1342 а 5—6): «Поистине, та же
страсть (πάθος), которая с силою одолевает
иные души, присуща всем по-разному —
кому более, кому менее: таковы жалость,
страх, а еще восторг (ἐνθουσιασμός), ибо
и этим порывом некоторые одержимы, как
видим мы по священным песнопениям, когда
<эти люди> пользуют душу разрешающими
(ἐξοργιάζουσι) напевами, утешаясь точно
как от излечения и катарсиса. Это же
самое необходимо претерпевают и
жалостливые и пугливые, и все вообще
прочие впечатлительные <люди постольку
>, поскольку каждого одолевает одна
из поименованных страстей и у всех
возникает некий катарсис и вместе с
удовольствием дает облегчение; подобным
же образом катартические напевы
доставляют людям безвредную радость».
Слово κάθαρσις и его производные здесь
сознательно оставлены без перевода.
Значение приведенного параграфа в том,
что он описывает особенности музыкального
восприятия, в какой-то мере экстраполируя
их на специфику восприятия вообще. О
психофизиологическом воздействии
музыки — в частности музыки религиозной
— писалось многократно, отмечает такое
воздействие и Аристотель, но отмечает
очень со стороны: «мы видим (ὁρῶμεν)
как они пользуют... (χρήσωνται)» — да это
и естественно, поскольку речь идет о
людях впечатлительных (παθητικοί), к
каковым Аристотель явно себя не относит
6а. Смысл параграфа представляется
следующим. Людей одолевают страсти —
одних больше, других меньше. Страсти
конкретны — у каждого своя. Все стремятся
завершить страсть катарсисом, в коем
соединяются удовольствие и облегчение.
Катарсисы различны, как различны страсти
— поэтому обобщенно говорится о «некоем
катарсисе» (κάθαρσίς τις). Для тех, чья
страсть—восторг, путем к катарсису
является священный напев. Для тех, чья
страсть — страх или жалость, путь к
катарсису другой, а какой, не сказано,
но можно предположить, что это, в
частности, трагедия, так как в «Поэтике»
Аристотель упоминает об этих чувствах.
Трагический катарсис, стало быть, вполне
отличен от музыкального: иная страсть,
иной способ ее завершения, иной итог,
иная «безвредная радость», потому что
(как сказано в той же «Политике» чуть
ниже) каждый получает удовольствие от
того, что родственно его душе (το κατὰ
φύσιν οἰκεῖον ). Из «Политики» нельзя
заключить, что представляет собой
трагический катарсис, но нетрудно
заключить, что он собою представлять
не может. П режде
всего никакой катарсис не может быть
излечением — это очевидно из соседства
слов «излечение» и «катарсис», указывающего
на то, что для чуждого риторическим
излишествам Аристотеля катарсис не
синонимичен излечению даже в пределах
данного контекста. Таким образом, одна
из самых популярных теорий катарсиса
— медицинская теория Бернайса — не
подтверждается текстом Аристотеля
применительно к любому виду искусства.
Далее из «Политики» ясно, что, как уже
отмечено выше, трагический катарсис не
равен музыкальному. Музыкальный катарсис
является разрядкой психического
напряжения и достигается посредством
эксоргиастических или катартических
мелодий. Глаголы ἐξοργιάζειν и καθαρίζειν
близки по значению и могут быть переведены
как «очищать», однако ἐξοργιάζειν —
культовый термин, предполагающий некую
психофизиологическую разрядку в
результате участия в обрядовых действиях,
а καθαρίζειν имеет значение куда более
общее и применимо к очищению сакральному,
бытовому, медицинскому, вообще к любому
процессу удаления действительной или
концептуальной грязи. Таким образом,
более конкретную смысловую нагрузку
несет ἐξοργιάζειν, и можно сказать, что
музыкальный катарсис достигается
эксоргиастическим способом. А трагический,
стало быть, другим, и, значит, распространенные
сейчас психологические теории трагического
катарсиса, связывающие его с подсознательными
процессами, суть автоматическое и
опровергаемое текстом Аристотеля
перенесение характеристик музыкального
катарсиса на трагический. Вообще говоря,
воздействие трагедии на зрителя было
весьма многообразно, и не последнюю
роль в этом воздействии играла музыка,
— но не для Аристотеля, откровенно
пренебрегающего в «Поэтике» не только
мелосом, но даже метром. «Безвредная
радость», которой ожидал Аристотель от
искусства
режде
всего никакой катарсис не может быть
излечением — это очевидно из соседства
слов «излечение» и «катарсис», указывающего
на то, что для чуждого риторическим
излишествам Аристотеля катарсис не
синонимичен излечению даже в пределах
данного контекста. Таким образом, одна
из самых популярных теорий катарсиса
— медицинская теория Бернайса — не
подтверждается текстом Аристотеля
применительно к любому виду искусства.
Далее из «Политики» ясно, что, как уже
отмечено выше, трагический катарсис не
равен музыкальному. Музыкальный катарсис
является разрядкой психического
напряжения и достигается посредством
эксоргиастических или катартических
мелодий. Глаголы ἐξοργιάζειν и καθαρίζειν
близки по значению и могут быть переведены
как «очищать», однако ἐξοργιάζειν —
культовый термин, предполагающий некую
психофизиологическую разрядку в
результате участия в обрядовых действиях,
а καθαρίζειν имеет значение куда более
общее и применимо к очищению сакральному,
бытовому, медицинскому, вообще к любому
процессу удаления действительной или
концептуальной грязи. Таким образом,
более конкретную смысловую нагрузку
несет ἐξοργιάζειν, и можно сказать, что
музыкальный катарсис достигается
эксоргиастическим способом. А трагический,
стало быть, другим, и, значит, распространенные
сейчас психологические теории трагического
катарсиса, связывающие его с подсознательными
процессами, суть автоматическое и
опровергаемое текстом Аристотеля
перенесение характеристик музыкального
катарсиса на трагический. Вообще говоря,
воздействие трагедии на зрителя было
весьма многообразно, и не последнюю
роль в этом воздействии играла музыка,
— но не для Аристотеля, откровенно
пренебрегающего в «Поэтике» не только
мелосом, но даже метром. «Безвредная
радость», которой ожидал Аристотель от
искусства
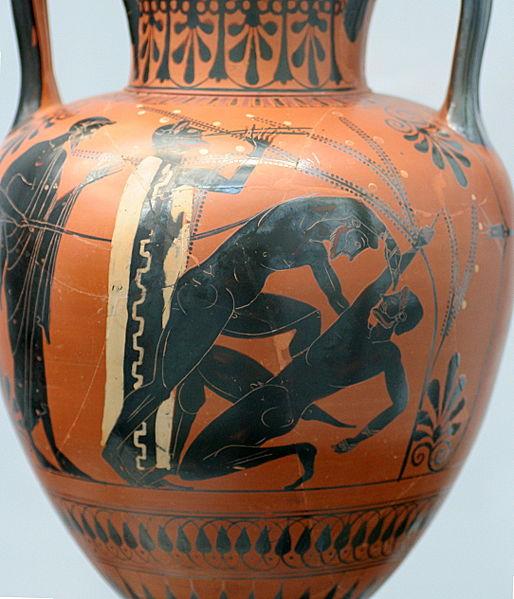 и—в
особенности — от своего любимого жанра,
т. е. от трагедии, определяется им уже в
одном из начальных параграфов «Поэтики»
(1448 b 12): «Не только философам, но равно
и прочим людям сладостнее всего —
познавать». Родственность этой радости
душе Аристотеля подтверждается всей
его жизнью и доктриной, в то же время
ограничивая круг возможных интерпретаций
исследуемого понятия: катарсис должен
быть связан с некоторой формой
интеллектуального удовлетворения. Так
как Аристотель говорит не только о
философах, но и о «прочих людях», то
очевидно, что под познанием следует
понимать не умозрительное постижение
некой отвлеченной истины, а просто
увеличение запаса знаний, в том числе
знаний, сообщаемых посредством
художественных образов («подражания»).
При всей условности разделения
«рационального» и «эмоционального»
ясно: в данном случае чувство (радость)
сопутствует мысли (познанию), т. е.
вторично. Сформулировав эти предпосылки,
можно обратиться непосредственно к
тексту «Поэтики».
и—в
особенности — от своего любимого жанра,
т. е. от трагедии, определяется им уже в
одном из начальных параграфов «Поэтики»
(1448 b 12): «Не только философам, но равно
и прочим людям сладостнее всего —
познавать». Родственность этой радости
душе Аристотеля подтверждается всей
его жизнью и доктриной, в то же время
ограничивая круг возможных интерпретаций
исследуемого понятия: катарсис должен
быть связан с некоторой формой
интеллектуального удовлетворения. Так
как Аристотель говорит не только о
философах, но и о «прочих людях», то
очевидно, что под познанием следует
понимать не умозрительное постижение
некой отвлеченной истины, а просто
увеличение запаса знаний, в том числе
знаний, сообщаемых посредством
художественных образов («подражания»).
При всей условности разделения
«рационального» и «эмоционального»
ясно: в данном случае чувство (радость)
сопутствует мысли (познанию), т. е.
вторично. Сформулировав эти предпосылки,
можно обратиться непосредственно к
тексту «Поэтики».
Уже в первой ее главе сказано, что подражания различаются предметом, средством и способом. Далее (гл. VI) трагедия определяется как воспроизведение действия важного и завершенного (предмет), услащенной речью и действием (средство), а затем следует знаменитое δι ἐλέον καὶ φόβον περαίνοντα τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν ["Трагедия есть подражание действию важному и законченному... и совершающее посредством сострадания и страха очищение (κάθαρσις) подобных страстей"] (1449 b 21—28). Исходя из главы I, это третья характеристика подражания, т. е. способ, в данном случае — способ драматического действия, хотя здесь описано скорее восприятие этого способа, поскольку страх и жалость — формы именно восприятия трагедии. Буало, демонстративно открывающий III песнь «Искусства поэзии» переложением аристотелевской главы о мимесисе, далее определяет «сладкий страх» и «чарующую жалость» как обязательные при восприятии хорошей трагедии.
Но если доблестный и благородный пыл
Приятным ужасом сердца не захватил
И не посеял в них живого состраданья,
Напрасен был ваш труд и тщетны все старанья.
(пер. Э. Линецкой)
Предлагаемые Аристотелем для хорошей трагедии правила отличаются нормативной однозначностью. Аристотель постоянно твердит, что не характеры, не мысли, не следование священному преданию и не красивые стихи создают хорошую трагедию, но только хороший миф (μῦθος) — «первоначало и как бы душа трагедии» (VI, 1450 а 38). Главное требование к трагическому мифу — цельность. Целое есть то, что имеет начало, середину и конец — этими же свойствами должен обладать трагический миф (VII,
 1450
b 26—32). Отступления от мифа недопустимы,
недопустимы даже независимые хоровые
партии: хор должен участвовать в действии,
ибо все, что вне мифа—лишнее (XVIII, 1456 а
15—32). Трагический миф определяется как
«склад событий» —σύνθεσις τῶν πραγμάτων
(VI, 1450 а 4), т. е. сюжет. Действительно, при
чтении «Поэтики» совершенно очевидно,
что именно представляется Аристотелю
основой хорошей трагедии — хитросплетенный
сюжет. Перипетии и узнавания вместе и
по отдельности, особенно напряженные
из-за страданий героя, ошибка и ее
неожиданные последствия — вот что
вызывает у зрителя страх и жалость
(XIII, 1452 b 30—36), доставляя ему удовольствие
(XIV, 1453 b 11—13) и, стало быть, приводя к
катарсису.
1450
b 26—32). Отступления от мифа недопустимы,
недопустимы даже независимые хоровые
партии: хор должен участвовать в действии,
ибо все, что вне мифа—лишнее (XVIII, 1456 а
15—32). Трагический миф определяется как
«склад событий» —σύνθεσις τῶν πραγμάτων
(VI, 1450 а 4), т. е. сюжет. Действительно, при
чтении «Поэтики» совершенно очевидно,
что именно представляется Аристотелю
основой хорошей трагедии — хитросплетенный
сюжет. Перипетии и узнавания вместе и
по отдельности, особенно напряженные
из-за страданий героя, ошибка и ее
неожиданные последствия — вот что
вызывает у зрителя страх и жалость
(XIII, 1452 b 30—36), доставляя ему удовольствие
(XIV, 1453 b 11—13) и, стало быть, приводя к
катарсису.
Выше мы сознательно оставили знаменитый пассаж VI главы без перевода, а теперь попробуем его перевести. Единственный глагол (причастие περαίνονσα) переводится обычно нейтральным «совершать», т. е. выходит, что трагедия совершает катарсис. Между тем у περαίνειν имеется четко выраженный результативный оттенок, в данном случае вовсе не противоречащий контексту, и нет никаких оснований не перевести περαίνονσα точно — «достигающая» (в том, что катарсис есть результат художественного воздействия, сходятся почти все интерпретаторы, это же вытекает из цитированного выше параграфа «Политики»), Если περαίνω в переводах несколько упрощается, то способ достижения — δι ἐλέον καὶ φόβον — приобретает излишнюю конкретность: διά оказывается «посредством», «путем», что уже предполагает какое-то толкование фрагмента. Избегая невольных толкований, лучше перевести δι ἐλέον καὶ φόβον нейтральнее — «через жалость и страх». Перевод сочетания τοιούτων παθημάτων отчасти соприкасается с проблемой перевода аристотелевой терминологии в целом. Если сохранять понятийную систему «Поэтики», то слово πάθημα нельзя переводить как «страсть» или «аффект», как это делается обычно, потому что страсть — πάθος. В принципе πάθος и πάθημα вполне могут выступать как синонимы, и в «Политике», например, для страха и жалости употреблено именно определение πάθος — т. е. некое сильное («страстное») чувство. Однако в «Поэтике» πάθος — совершенно конкретный термин, означающий страдание трагического героя 7. Если уравнять в переводе πάθος и πάθημα, то действительно появятся основания для «эксоргиастического» толкования катарсиса, потому что переживания зрителя отождествятся со сценическими страданиями, — но тогда ни о какой безвредной радости не может быть и речи. Однако текст «Поэтики» свидетельствует о том, что πάθος по меньшей мере опасен, а вот πάθημα доставляет удовольствие, так что представляется целесообразным перевести πάθημα (и без того не слишком окрашенное эмоционально и в словаре Аристотеля означающее «преходящее свойство») словом менее энергичным, чем «страсть», а именно «переживание», тем более что однокоренной глагол постоянно употребляется по-русски в контексте, близком или идентичном «жалости и страху»: «я так за него переживаю». Тогда перевод примет вид: «Трагедия есть воспроизведение свершения важного и законченного..., достигающее через жалость и страх катарсиса таковых переживаний».
 Прилагательное
κάθαός означает не только «чистый», но
и «ясный», «открытый», соответственно
и κάθαρσις — не только «очищение», но
и «прояснение». Наверно правильнее
всего был бы описательный перевод:
«удаление помехи, мешающей объекту
явить свою истинную сущность» — будь
эта сущность здоровым телом, здравым
рассудком или чем угодно другим, — но
если катарсис связан с радостью познания,
то будет разумно вслед за Гауптом придать
переводу этого термина обусловленную
контекстом конкретность. Гаупт предлагал
переводить κάθαρσις как «просветление»
— такой перевод вытекал из его толкования
катарсиса в интеллектуально-мифологическом
смысле по аналогии с конечным результатом
мистерий: прошедший все степени посвящения
адепт просветляет свой разум сокровенным
знанием, трагедия представляет собой
«дионисийское действо» и возводится к
вакхическим таинствам, а стало быть,
сокровенное знание просветляет и разум
театрального зрителя, посредством
трагедии приобщающегося к священной
истине 8. Такое толкование весьма шатко,
как и почти любое объяснение трагедии
преимущественно из ритуала (отметим
хотя бы, что мисту сообщалась тайна, а
зрителю — общеизвестный и общедоступный
миф), но предложение отказаться от
традиционного «очищения» представляется
основательным. Мы предлагаем компромиссный
перевод — «прояснение». «Чистый» и
«ясный» во многих контекстах могут
выступать как синонимы, и применительно
к какой-либо форме познания «ясность»
— в отличие от «чистоты» — не требует
дополнительных толкований, в известном
смысле отменяющих перевод. Итак,
окончательное чтение отрывка следующее:
«Трагедия есть воспроизведение свершения
важного и законченного, долготою
определенного, услащенной речью
по-разному в разных частях, действием
и не повествованием, достигающее через
жалость и страх прояснения таковых
переживаний». Прояснение переживаний
достигается к к
Прилагательное
κάθαός означает не только «чистый», но
и «ясный», «открытый», соответственно
и κάθαρσις — не только «очищение», но
и «прояснение». Наверно правильнее
всего был бы описательный перевод:
«удаление помехи, мешающей объекту
явить свою истинную сущность» — будь
эта сущность здоровым телом, здравым
рассудком или чем угодно другим, — но
если катарсис связан с радостью познания,
то будет разумно вслед за Гауптом придать
переводу этого термина обусловленную
контекстом конкретность. Гаупт предлагал
переводить κάθαρσις как «просветление»
— такой перевод вытекал из его толкования
катарсиса в интеллектуально-мифологическом
смысле по аналогии с конечным результатом
мистерий: прошедший все степени посвящения
адепт просветляет свой разум сокровенным
знанием, трагедия представляет собой
«дионисийское действо» и возводится к
вакхическим таинствам, а стало быть,
сокровенное знание просветляет и разум
театрального зрителя, посредством
трагедии приобщающегося к священной
истине 8. Такое толкование весьма шатко,
как и почти любое объяснение трагедии
преимущественно из ритуала (отметим
хотя бы, что мисту сообщалась тайна, а
зрителю — общеизвестный и общедоступный
миф), но предложение отказаться от
традиционного «очищения» представляется
основательным. Мы предлагаем компромиссный
перевод — «прояснение». «Чистый» и
«ясный» во многих контекстах могут
выступать как синонимы, и применительно
к какой-либо форме познания «ясность»
— в отличие от «чистоты» — не требует
дополнительных толкований, в известном
смысле отменяющих перевод. Итак,
окончательное чтение отрывка следующее:
«Трагедия есть воспроизведение свершения
важного и законченного, долготою
определенного, услащенной речью
по-разному в разных частях, действием
и не повествованием, достигающее через
жалость и страх прояснения таковых
переживаний». Прояснение переживаний
достигается к к онцу
трагедии и соответствует сюжетной
развязке. И тут обнаруживается любопытное
обстоятельство.
онцу
трагедии и соответствует сюжетной
развязке. И тут обнаруживается любопытное
обстоятельство.
У Аристотеля имеется непонятный и потому вроде бы лишний термин — катарсис, зато одного термина у него явно недостает. Целое имеет начало, середину и конец, этими же частями обладает трагический миф (VII, 1450 b 26—32), σύνθεσις которого должен, следовательно, включать τέλος?. Но при дальнейшем анализе трагического сюжета в нем выделяются только две части: δέσις и λύσις, чаще всего переводимые соответственно как «завязка» и «развязка». Завязка, включающая релевантные сюжету элементы предыстории, занимает собою начало трагедии — до «перехода к счастью», т. е. фактически до реального развертывания сюжета, а развязка—это все остальное до самого конца (XIII, 1455 b 24—28). Очень длинная получается развязка. Например, в одной из самых любимых трагедий Аристотеля — в «Ифигении в Тавриде» —
λύσις начинается (самое позднее!) с узнавания Ореста и занимает, таким образом, больше половины драмы. И здесь — как и положено в статье о катарсисе — наконец-то возникает психологическая проблема, хотя ниже речь пойдет не столько о страстях, сколько о бензине из Уорфовских бочек — о своеобразной магии мнимо понятного слова.
Аристотель первый в Европе сочинил нормативную поэтику, в коей использовал среди прочих термин λύσις — от глагола λύειν 'развязывать', 'распутывать', 'разрешать'. После Аристотеля было сочинено еще множество поэтик, и самыми нормативными были, разумеется, классицистические, в которых тоже было много о трагедии и был термин dénouement (или dénoument) от глагола dénouer 'развязывать', 'распутывать', 'разрешать'. Влияние Аристотеля тут очевидно, но нет оснований говорить о терминологическом заимствовании — греческий термин и его французская калька означают разные понятия. Λύσις порой занимает около половины трагедии, dénouement наступает только в конце — по Шаплену, в пятом акте 10. Уже ввиду своего объема λύσις состоит из многих сюжетных элементов (перипетий); dénouement представляет собой один единственный элемент — неожиданное разрешение драматической коллизии. Как сказано у Буалo:

Пусть напряжение доходит до предела
И разрешается потом легко и смело
(пер. Э. Липецкой)
— т. е. без дополнительных сюжетных перипетий, сразу, быстро. И все новоевропейские определения развязки имеют в виду классицистический dénouement, наступающий после финальной кульминации действия. В этом своем результативном значении слово «развязка» входит и в другие языковые контексты (например, у Даля: «последние окончательные обстоятельства, чем дело решилось»). Итак, современный читатель «Поэтики» видит у Аристотеля λύσις, понимает «развязка» — и далее остается в уверенности, будто о развязке Аристотель написал именно тут. Мы вовсе не хотим упрекнуть исследователей в том, что они-де не улавливают определения λύσις из XVIII главы — конечно же, оно используется, интерпретируется и ни для кого сложности не представляет. Мы имеем в виду другое: обаяние термина создает у читателя иллюзию, будто у Аристотеля здесь сказано о «настоящей» (точнее, «нашей») развязке: ведь про λύσις сказано, а λύσις— развязка, а развязка — быстрый и неожиданный dénouement, быстрота и неожиданность которого заключены уже в слове «развязка», т. е. λύσις, а про λύσις у Аристотеля сказано... и т. д. Попробуем прочесть Аристотеля отдельно от Буало.
Обращаясь
к «Поэтике», необходимо помнить, что
всякая норма представляет собой прежде
всего канонизацию реального (или
воображаемого таковым) образца: так,
ритуальная норма есть канонизация
действий предка или культурного героя,
норма отношений Европы и Азии у Геродота
определяется событиями мифологического
прошлого и т. д. — о сакрализованных
прототипах «оного времени» существует
целая литература. Ну, а Марафонская
дистанция или эпикурейский образ жизни?
Здесь исторические прототипы очевидны,
однако это не служит препятствием для
канонизации и не умаляет нормативного
значения прототипа. Поэтому когда речь
идет о произвольно созданных системах
правил, то для понимания системы
существенно знать, какой прототип она
канонизирует. Так, применительно к
Аристотелю ясно, что его воззрения на
эпический сюжет запрограммированы не
только его пристрастием к сюжету
трагическому, но и канонизированными
до него образцами — «Илиадой» и
«Одиссеей». Здесь Аристотель образцов
не выбирал, но с трагедиями он чувствовал
себя вольнее — классики нового жанра
еще не были обожествлены.
 Вот
пример. Почти все трагедии сочинялись
на сюжеты священного предания, но
Аристотель не кодифицирует это «почти
правило», обосновывая возможность
полного вымысла тем, что в «Цветке»
Агафона вымышлены все события и имена,
а успеху трагедии это не вредит (IX, 1451 b
23). Аристотель в своих рассуждениях явно
руководствуется не только соображениями
сценического успеха, и, следовательно,
«Цветок» входит в его список образцовых
трагедий. Предлагаемые «Поэтикой» нормы
представляют собой результат анализа
образцовых трагедий и выделения
соответствующей инвариантной парадигмы:
произвольность нормы определяется
произвольностью выбора образца,
реальность нормы определяется реальностью
образца. Многое из того, что Аристотель
отвергал, совсем того не заслуживало,
но все, что он предписывал, действительно
имелось, и все, что имелось, он предписал
или отверг, или, наконец, «оставил
хорегам».
Вот
пример. Почти все трагедии сочинялись
на сюжеты священного предания, но
Аристотель не кодифицирует это «почти
правило», обосновывая возможность
полного вымысла тем, что в «Цветке»
Агафона вымышлены все события и имена,
а успеху трагедии это не вредит (IX, 1451 b
23). Аристотель в своих рассуждениях явно
руководствуется не только соображениями
сценического успеха, и, следовательно,
«Цветок» входит в его список образцовых
трагедий. Предлагаемые «Поэтикой» нормы
представляют собой результат анализа
образцовых трагедий и выделения
соответствующей инвариантной парадигмы:
произвольность нормы определяется
произвольностью выбора образца,
реальность нормы определяется реальностью
образца. Многое из того, что Аристотель
отвергал, совсем того не заслуживало,
но все, что он предписывал, действительно
имелось, и все, что имелось, он предписал
или отверг, или, наконец, «оставил
хорегам».
Это длинное отступление потребовалось, чтобы подчеркнуть невозможность для автора «Поэтики» полностью пренебречь столь характерным для трагедии эффектным финалом, неожиданность которого обычно с избытком удовлетворяет классицистическим требованиям. Следуя предпочтениям Аристотеля, разберем с этой точки зрения dénouements 18 «Царя Эдипа» и «Ифигении в Тавриде». Эдип узнает о своих невольных преступлениях — это кульминация. Потерпев неудачу в борьбе с судьбой, Эдип ослепляет себя, добровольно и своеручно следуя оракулу, — неожиданная и быстрая развязка. Ифигения узнает брата, хочет с ним бежать, и вот-вот оба они будут убиты Фоантом — кульминация. Deus ex machina (Афина) останавливает Фоанта и спасает беглецов — неожиданная и быстрая развязка. Разумеется, эти финалы входят в λύσις, но составляют малую его часть, а, стало быть, термином λύσις описаны быть не могут.
Трудности понимания здесь связаны с тем, что фактически Аристотель членит сюжет тремя способами (не считая выделения сюжетообразующих элементов вроде узнавания). Первый способ — по аналогии со всяким завершенным действием — предполагает деление на три части: начало,
111
середину и конец. Второй способ предполагает деление на две части — δέσις и λύσις (этот способ можно условно назвать актуальным, так как в терминах актуального членения (δέσις уподобляется теме, а λύσις — реме). При наложении этих двух видов членения получаем: δέσις — начало, λύσις — середина и конец («переход» имеет лишь связующее значение, поскольку как ясно определено, λύσις — все, что после δέσις). Третий способ уместнее всего назвать «перцептивным», поскольку он описывает трагедию в терминах ее восприятия и также выделяет две части: переживания (страх и жалость) и прояснение (катарсис). Страх и жалость зритель испытывает в процессе развертывания сюжета, т. е. в начале и середине действия, прояснение — в конце. То, что второй и третий виды членения не покрывают друг друга, оказывается естественным следствием разнородности актуального и перцептивного членения, являющихся видами основного (трехчастного) членения. Итак, соотнося терминологию Аристотеля с общепринятой (реально-классицистической), получаем:

Новоевропейская терминология
«Поэтика» Аристотеля общее членение актуальное членение перцептивное членение
1. Завязка начало δέσις
Παθήματα (страх и жалость)
2. Действие с кульминацией середина λύσις
3. Развязка (dénouement) конец κάθαρσις
Буало пишет в «Поэтическом искусстве», что «ум никогда не чувствует себя более живо пораженным», чем в финале трагедий, когда «познанная истина меняет все», и эти строки никогда не упоминаются в перечне толкований катарсиса, хотя именно в них лучше всего формулируется та внезапность окончательного прояснения, которой должен завершаться хороший трагический сюжет по мнению двух лучших знатоков трагедии. Только такая поражающая умы развязка — трагический катарсис — может подарить зрителю безвредную радость сперва возбужденного самыми сильными средствами, а затем сполна удовлетворенного любопытства.
