
О советской парадигме
.pdf
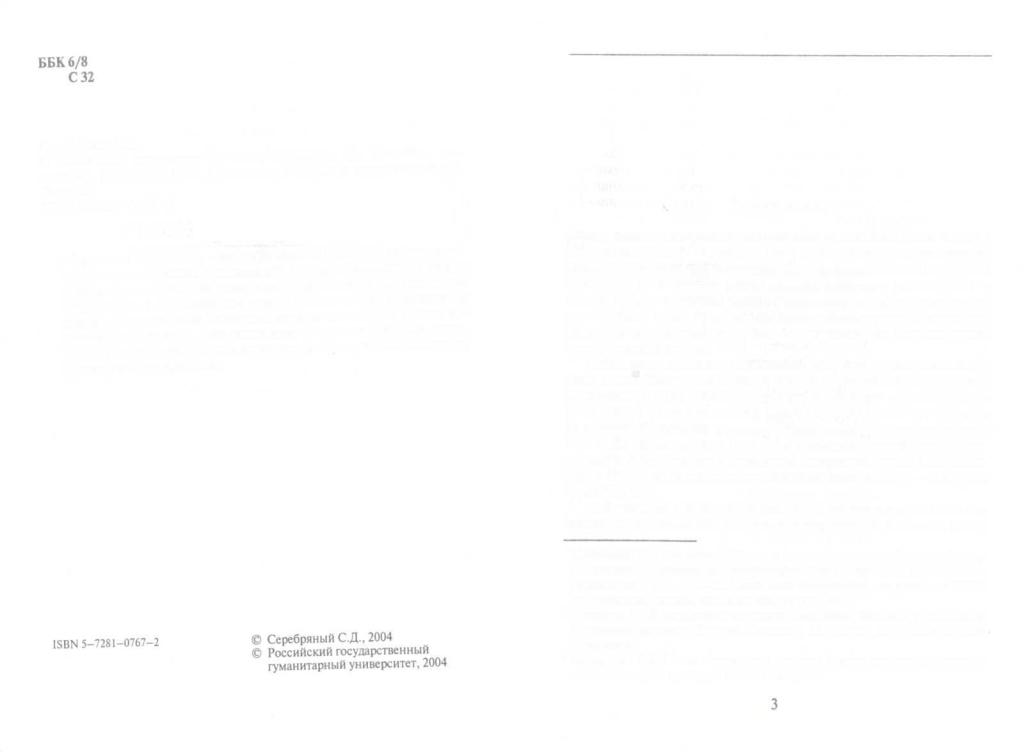
Серебряный С.Д.
О «советской парадигме» (заметки индолога). М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2004. 80 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 43)
ISBN 5-7281-0767-2
«Советская парадигма» - это те привычки (зачастую неосознаваемые) мировосприятия и мышления, которые сложились в наших гуманитарных науках за годы советской власти и так или иначе сохраняются в постсоветское время. В этом очерке предлагается критическое описание «советской парадигмы» с точки зрения востоковеда (индолога). Речь также идет о серии «поворотов», которые, по мнению автора, предстоит осуществить, чтобы расстаться с «советской парадигмой».
Предисловие
Очерк, здесь публикуемый, был написан (в основной своей части) в 2001-начале 2002 г. как первая глава более обширного (диссертационного) сочинения под названием «Проблемы понимания индийской культуры». Но поскольку в этом очерке я попытался рассмотреть некоторые общие проблемы наших гуманитарных наук, то полагаю, что данный текст имеет право на отдельное существование и может претендовать на внимание не только востоковедов, но и гуманитариев других специальностей.
Наблюдения и мысли, составившие этот очерк, накапливались у меня давно. Некоторые из них и прежде обретали печатную форму: во введении к «ИВГИйскому» учебнику по «истории мировой культуры» (1998 г.)', в предисловии к моему переводу (с санскрита) книги Видьяпати «Испытание человека» (предисловие было написано еще в 1990 г., но книга вышла в 1999 г.)2 и в довольно старой статье о становлении жанра романа в индийской литературе (статья была написана в 1978 г., но полностью опубликована лишь в 2003 г. — в этой же серии ИВГИ)3.
Мой очерк не претендует на большую оригинальность. В нем высказано то, что «носится в воздухе» и ощущается многими — но мало у
1 Серебряный С.Д. Введение // История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 9-36. Книга была подготовлена сотрудниками ИВГИ по материалам лекций, читаемых ими в РГГУ.
2Серебряный С.Д. Видьяпати и его книга «Испытание человека» // Видьяпати. Испытание человека (Пуруша-Парикша). М.: Наука, 1999 (Литературные памятники).
3Серебряный С.Д- Роман в индийской культуре Нового времени («Чтения по истории и теории культуры. Вып. 37). М., 2003.

кого доходят руки до фиксации этих ощущений на бумаге. Во всяком случае, такие оценки я услышал от нескольких моих коллег, которые так или иначе ознакомились уже с этим текстом. Одобрение и критика со стороны коллег (которым я приношу самую искреннюю благодарность) укрепили меня в намерении издать мой очерк в виде отдельной книжки.
По истечении двух лет тема этого очерка отнюдь не стала менее актуальной. Для данной публикации я лишь расширил некоторые примечания и добавил несколько новых. Одно из примечаний разрослось настолько, что из него пришлось сделать «Приложение» («О гордыне и смирении»).
В заключение этого краткого предисловия — несколько стихо-
творных строк:
Злоба нынешнего дня Злобу прошлого затмила, Но при этом для меня Прошлое не стало мило.
Это прошлое досель Нами вовсе не изжито.
Мы тянули канитель У разбитого корыта, Мы на новых рубежах Били старые баклуши, Будто незабытый страх
Не покинул наши души, Будто прежние цари
Внаших головах царили
Ивсё те же звонари
От зари и до зари Пустозвонством нас морили.
Что же делать? Как нам быть? Мы пока еще не знаем. Думаем, куда ж нам плыть, И на Бога (?) уповаем.
Постсоветская герменевтическая ситуация'
Гуманитарные науки у нас теперь пребывают если и не в состоянии кризиса, то, несомненно, в состоянии переходном2 — как и страна в целом3. И дело не только и не столько в «недостаточном финансировании» или в утечке мозгов. Дело скорее в том, что после нескольких десятилетий состояния придавленного, приниженного, угнетенного наши гуманитарные науки никак не могут вполне распрямиться, обрести новое дыхание и в полной мере воспользоваться той свободой (пусть по-своему и ограниченной), которую они вот уже лет десять как обрели. Видимо, надо, чтобы пришли совсем новые люди, новые поколения, которые никогда не пригибались, не приспосабливались, не «применялись к подлости», люди, которые вырастут в условиях политической и информационной свободы, — и тогда, будем надеяться, гуманитарные науки в России действительно начнут новый период своей истории.
Сейчас (и давно уже) у нас у всех и «на слуху», и «на языке» такие понятия, как «(научная) парадигма» (Т.Кун)4 и «эпистема» (М.Фуко)5. Не берусь судить вообще о пределах применимости этих понятий. Но нашу нынешнюю (постсоветскую) ситуацию в гуманитарных науках вполне можно описать как ситуацию смены «парадигм» и/или «эпистем». Смена эта происходит медленно, зачастую как бы «подпольно», т. е. недостаточно явно (эксплицитно) и осознанно6. Для некоторых (если не для многих) это процесс болезненный: людям старших и средних поколений трудно менять устоявшиеся интеллектуальные привычки (и то, что теперь у нас называют «ментальностью»). Расставание с прошлым нередко имеет лишь декларативный характер — и (по известному французскому выражению) plus ga change — plus c'est la meme chose7.

Ситуация в гуманитарных науках, как уже сказано, отражает ситуацию в стране в целом. У нас в 1990-х годов не произошло, по сути дела, столь же радикального размежевания с собственным недавним прошлым, как, скажем, в Германии или Японии после 1945 года. Хорошо это или плохо для общества и государства в целом — особый вопрос. Но то, что подобного радикального размежевания не было произведено в наших гуманитарных науках, — факт скорее прискорбный.
Более того, «советская парадигма»8 (или, если угодно, «советская эпистема»9) в гуманитарных науках не была до сих пор, насколько мне известно, подвергнута сколько-нибудь широкому и подробному анализу. По-видимому, на то были разные причины. Кому-то хотелось эту «парадигму» сохранить, лишь слегка ее изменив (отбросив наиболее одиозные элементы и прибавив — для престижности и мимикрии — наиболее новомодные). Кому-то же, напротив, хотелось эту «парадигму» скорее забыть, отбросить — и начать работать по-новому. Но «советская парадигма» (в разных своих ипостасях) существовала так долго и была столь могущественной и всеохватной, что от нее (как показывает опыт постсоветских лет) невозможно просто отмахнуться, невозможно просто ее забыть и отбросить — и перейти к чему-то другому. Этому «другому» откуда же взяться?
«Советская парадигма» продолжает жить и действовать как бы в подсознании даже многих из тех, кто искренне считал и считает себя давним ее оппонентом, а ныне полагает себя вполне свободным от ее давления12. «Советская парадигма» обладала таким мощным «силовым полем», что в той или иной степени подчиняла себе даже тех, кто стремился ей противостоять (и порой успешно противостоял). Само противостояние теперь, в исторической перспективе (или, вернее, ретроспективе), нередко выглядит как приспособление, потому что надо было использовать по крайней мере язык этой парадигмы (или соответствующий «эзопов язык»), чтобы высказать ей в лицо какое-то возражение13. Многие тексты, в советское время написанные в духе противостояния «советской парадигме», сейчас воспринимаются как несущие на себе ее характерный отпечаток14.
Далее я попытаюсь изложить свое видение «советской парадигмы», ее продолжающегося присутствия в нашей «ментальности» — и перспектив ее преодоления. Своеобразие нашей нынешней «герменевтической ситуации» во многом обусловлено, как мне кажется, имен-
но затянувшимся расставанием с «советским прошлым». Речь пойдет также и о нескольких взаимосвязанных «поворотах», которые, на мой взгляд, необходимо совершить, чтобы действительно уйти (отвернуться, увернуться) от «советской парадигмы»15. По крайней мере некоторые из этих «поворотов» у нас уже происходят. Можно сказать, что сложность нашей нынешней «герменевтической ситуации» состоит именно в том, что нам приходится совершать одновременно ряд «поворотов» в нескольких измерениях или, другими словами, многомерное «разворачивание» («поворачивание»?) наших мыслительных и познавательных привычек.
Дальнейшие рассуждения необходимо предварить несколькими оговорками.
«Советская парадигма», о которой пойдет речь, — это, несомненно, некая абстракция (или, в других терминах, — упрощенная модель).
Во-первых, советская система существовала около семидесяти лет и отнюдь не была чем-то неизменным от 1917 до 1991 г. «Советская идеология» менялась со временем, и в ее истории можно выделить по крайней мере несколько довольно разных периодов. Соответственно, и более детальный анализ «советской парадигмы» должен был бы учитывать это временное измерение. Но здесь, как правило, оно не будет учитываться. Речь пойдет в основном о том состоянии «советской парадигмы», в котором она пребывала в поздний («послехрущевский», «брежневский») период советской истории, поскольку это именно то, что было нами (ныне действующими гуманитариями) непосредственно унаследовано, и то, что до сих пор во многом актуально.
Во-вторых, «советская парадигма» (хотя она и воображала себя «монолитной», «единой» и т. д.) была до известной степени плюралистична не только во временнбм отношении.
В разных гуманитарных дисциплинах ее власть проявлялась поразному. Так, например, лингвистам (особенно к концу советского времени) порой удавалось в значительной степени эмансипироваться от засилья общей «парадигмы»16. Но лингвистика (вероятно, в силу своей большей близости к естественным наукам) вообще занимала у нас несколько особое положение. В моем описании «советской парадигмы» лингвистика будет иметься в виду в меньшей степени, чем, скажем, философия, литературоведение или история.
Следует также помнить, что практически в любой гуманитарной дисциплине неординарные личности могли иногда даже в рамках «со-

ветской парадигмы» (или как бы в ее рамках, используя различные уловки17) создавать нечто иное. Но ниже речь пойдет в основном о «парадигме» как таковой и лишь в малой степени — о том, что из нее так или иначе «выламывалось».
В-третьих, здесь нет возможности подробно рассматривать такую проблему, как исторические корни (составляющие) «советской парадигмы», хотя вовсе избежать этой темы, конечно же, нельзя.
Наконец (в-четвертых), «советская парадигма» при всем своем своеобразии вряд ли была чем-то абсолютно уникальным и неповторимым. Многие ее черты и свойства, несомненно, можно обнаружить и в других, совсем иных «парадигмах». Но здесь нас не занимают вопросы «сравнительного парадигмоведения». В дальнейшем описании компаративный момент практически отсутствует.
«Поворот» от гордыни к смирению
Как описывать «парадигмы» и «эпистемы»? Есть ли у них какие-то «закономерности строения»? Можно ли, скажем, различать в них «базис» и «надстройку» (т. е., с одной стороны, нечто основное, главное, и, с другой, нечто производное)? Как соотносятся между собой разные их части и черты? Не знаю. Пойду на ощупь, и, может быть, по ходу описания проступит какая-то схема и/или какая-та связь частей.
Начну с того, что можно назвать «комплексом сверхполноценности», а используя более традиционные слова — гордыней или отсутствием смирения. Предполагалось (всегда ли искренне?), что «советский ученый» вооружен «единственно научным» и «самым верным» «мировоззрением» («методом») под названием «марксизм»18 или «марк- сизм-ленинизм» (другие, более частные наименования: «диалектика», «диалектический материализм», «исторический материализм» и т. д.). Этот «метод» обеспечивал «советскому ученому» превосходство над учеными «немарксистскими» и, более того, служил своего рода «универсальной отмычкой» ко всем научным (и даже не только научным) проблемам. Отсюда— гносеологическая (эпистемологическая)19 гордыня, отсутствие смирения перед сложностью и возможной непознаваемостью мира20.
Для советских гуманитарно-научных текстов был характерен «образ автора-всезнайки»21: вооруженный «подлинно научным» методом, ученый гуманитарий свободно проникал во все тайники истории и человеческой души, а также уверенно судил о том, в чем правы, а в
чем не правы другие ученые (особенно «немарксистские»)22. Как показал наш недавний опыт, подобная «позиция всезнайства» (или, иначе сказать, эпистемологическая гордыня) не связана жестко с ка- ким-либо одним «всепобеждающим учением». В роли такового может выступать и просто «Наука», или какая-нибудь из ее частных и новомодных ипостасей, или даже постсоветское неоправославие (исповедуемое нередко бывшими «марксистами»).
Очевидно, что советско-«марксистская» «эпистемологическая гордыня» была в основном заимствована у Запада — в общем «пакете» «марксизма» или даже «новоевропейской эпистемы»23 в целом; заимствована— и усилена (огрублена) на российской почве. Возможно, что здесь не обошлось и без влияния допетровского (православного) субстрата: ведь православие, как и советский «марксизм», также считало и считает себя «единственно верным мировоззрением».
В списке тех «поворотов», которые, по моему мнению, надо осуществить нашим гуманитарным наукам (т. е. ученым-гуманитариям), едва ли не на первом месте должен стоять именно «поворот» от гордыни к смирению. И не только потому, что того требует научный «этос» вообще, но еще и в силу нашей нынешней специфической ситуации (описанию которой и посвящен этот очерк).
«Поворот» от однолинейности к плюрализму
Водном «пакете» с «эпистемологической гордыней» к нам пришли
итакие (тесно с ней связанные) элементы европейского сознания XIX в., которые можно назвать «однолинейным историзмом» и «исто- рико-культурным монизмом».
«Однолинейный24 историзм» — это стереотип исторического мышления, который сложился (в основном, в XIX в.) в Западной Европе, гордой своими успехами в промышленности, науке и колониальной экспансии. Вся многообразная история человечества вытягивалась как бы вдоль одной линии, в начале которой был «первобытный человек»,
ав конечной точке — современная Западная Европа, которая считала себя вершиной25 истории человечества и эталоном для развития других народов. Этот наивный и надменный псевдоисторизм и в XIX в. ставился под сомнение некоторыми европейскими (в том числе и русскими) мыслителями26, а в XX в. (особенно после двух мировых войн, развязанных именно европейцами) он и вовсе стал выглядеть анахронизмом27. Возрастание роли неевропейских народов в мировых собы-

тиях, а также рост и развитие исторического знания способствовали распространению более плюралистических (более реалистических!) подходов к истории.
Но у нас, в советское время, восторжествовал именно «однолинейный псевдоисторизм»28 (опять-таки в довольно упрощенной и догматизированной форме) — под названием «исторический материализм». Согласно этому «изму», все народы и культуры якобы должны были проходить в течение веков через одни и те же «стадии развития» («формации»), причем на каждой «стадии» определенному «социальноэкономическому базису» соответствовала более или менее определенная «идеологическая надстройка». И этой общей схеме так или иначе должны были подчиняться в нашей стране все гуманитарные дисциплины (в частности, история философии, история литературы)29.
К счастью, эпоха принудительного «марксизма» миновала (и оказалась отнюдь не неизбежной «стадией» для всех народов). Остается надеяться, что никто больше не будет принуждать нас ни к каким «измам» и мы сможем свободно оглядывать все пространство человеческой истории, стараясь честно и непредвзято описывать то, что действительно открывается нашему взору. А открывается ему в действительности многообразие человеческих культур, которое без насилия и упрощения невозможно выстроить в одну шеренгу, невозможно втиснуть в формулы «стадий», «формаций» и т. д.
Но при изучении этого многообразия культур следует осознавать наличие и силу еще одного стереотипа, тесно связанного с «однолинейным историзмом». Даже за пределами нашего доморощенного «марксизма» этот стереотип был выявлен и начал активно преодолеваться сравнительно недавно. Обозначен он может быть (за неимением лучшего термина) как «историко-культурный монизм».
Для европейского сознания (хотя, разумеется, не только для него) была характерна привычка абсолютизировать самого себя, т. е. почитать себя и нормы своей культуры за нечто универсально-человече- ское и в этом смысле абсолютное. Можно сказать, что «историко-куль- турный монизм» — это синхронный (или ахронный, вневременной) коррелят «однолинейного историзма». В основе «историко-культур- ного монизма» (в его новоевропейском варианте) лежало (и лежит) представление о сущностном единообразии, тождественности всех человеческих культур и, следовательно, их сущностной тождественности культуре новоевропейской30. Другие культуры мерились мерками своей (поскольку они считались универсально приложимыми) —
и это неизбежно приводило к искаженным представлениям (ведь и физики давно установили, что результаты измерений во многом зависят от измерительного прибора)31.
То, что здесь названо «историко-культурным монизмом»32 применительно к «ментальности» европейской, можно сравнить с тем, что видный немецкий индолог Пауль Хакер (1913-1979) назвал «инклюзивизмом» (das Inklusivismus) применительно к «ментальности» индийской (точнее — индусской). Хакер выдвинул концепцию индусского «инклюзивизма» в пику распространенному (и, по его мнению, ложному) представлению о толерантности (терпимости), якобы присущей индусам, индусской «ментальности», в отличие от нетолерантности (нетерпимости), якобы присущей «ментальности» европейской (западной). Хакер утверждал: то, что обычно принимается за индусскую толерантность, т. е. за готовность якобы с пониманием и сочувствием относиться к чужим верованиям и взглядам, на самом деле есть нечто совсем другое. Согласно Хакеру, индусам свойственно стремление не столько понять и прочувствовать чужие воззрения, сколько представить (интерпретировать) их как частные и неполные варианты своих собственных воззрений и верований, которые, конечно же, провозглашаются самыми верными, всеобъемлющими и т. д. Идеи Хакера горячо обсуждались коллегами-индологами33. Тот факт, что «инклюзивизм» (в вышеописанном смысле) на самом деле нередко присутствует в индусских (и особенно нео-индуистских) «дискурсах», не вызывает особых сомнений. Но можно полагать, что немецкий индолог охарактеризовал не только и не столько какое-то особое свойство индусской «ментальности», сколько некое универсальное явление, в той или иной мере присущее различным культурным традициям. Как уже сказано, европейский «историко-культурный монизм» если и не вполне тождествен «инклюзивизму» (как его определил Хакер), то во всяком случае обладает с ним несомненным «семейным сходством»34. Можно, правда, сказать, что европейский (и, в частности, советский) вариант «инклюзивизма» нередко более агрессивен (нетерпим!), чем его индусский аналог: чужие воззрения не просто интерпретируются в свете своих воззрений, но часто «клеймятся», «разоблачаются» как «неверные», «ложные», «порочные» и т.д.35 Но дело, может быть, не столько в каких-то «имманентных» свойствах той или иной «ментальности», сколько в том, что индусские мыслители и идеологи на протяжении многих веков не могли выступать «с позиции силы».
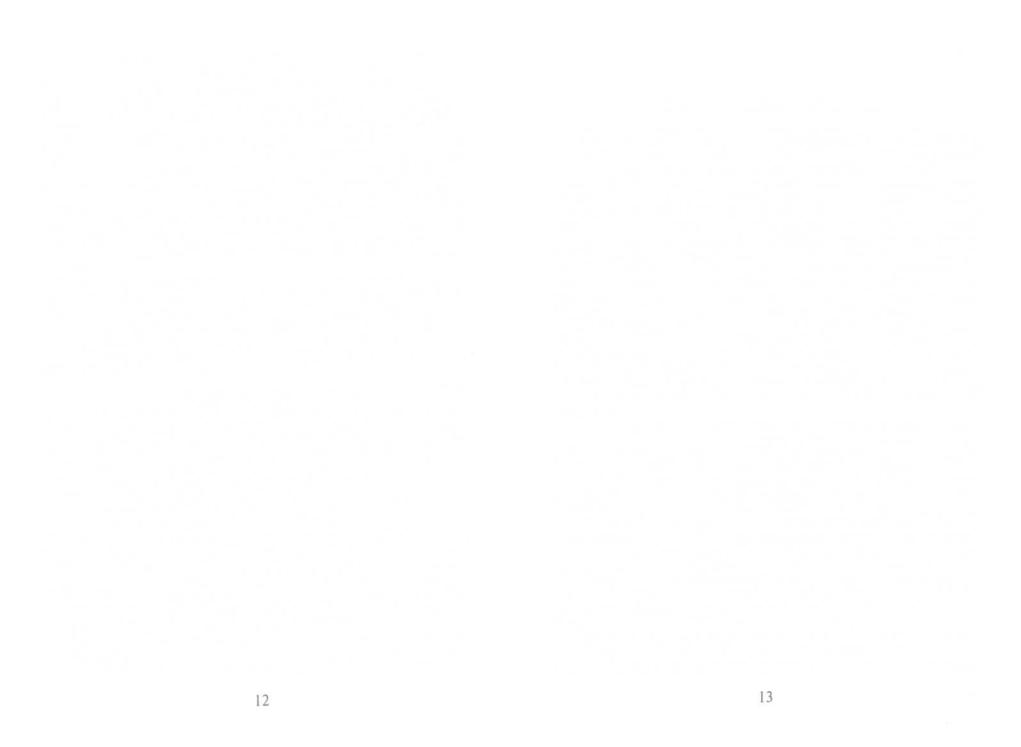
У нас «историко-культурный монизм» нередко принимает (подобно другим заимствованиям с Запада) довольно специфические формы. Российский гуманитарий, как правило, ощущает себя частью европейского (или, шире, западного) интеллектуального мира: западноевропейская (или даже вообще западная) история (в частности, история идей или, иначе, «история духа», Geistesgeschichte) для него — «своя», «наша» история (в отличие, скажем, от истории Индии или Китая), мир западных идей и образов — это «свой», «наш» мир (в отличие опять-таки от мира идей и образов Индии или Китая)36. Россия и ее история (в самом широком смысле, включая Geistesgeschichte) воспринимается (если вообще принимается во внимание) чаще всего как часть европейского мира37 (а если даже и как нечто особое, то прежде всего в противопоставлении именно европейскому миру38).
Условия существования (прозябания) гуманитарных наук в советское время привели к тому, что российский гуманитарий привык жить в мире европейских (западных) идей, не очень заботясь о том (не умея думать о том), как эти идеи соотносятся с родной российской почвой39. Иными словами, наш «историко-культурный монизм» был не только заемным, но еще и сугубо «умственным», книжным, абстрактным40.
Одна из причин этой абстрактности заключалась в том, что советские гуманитарии после 1917 г. (точнее — с 1920-х годов) и вплоть до конца 1950-х — начала 1960-х практически не выезжали «за границу». Мир за пределами СССР для большинства превратился поистине в абстракцию41. И это обстоятельство, по-видимому, не могло не усугубить «историко-культурный монизм» наших гуманитарных наук: было потеряно ощущение многообразия мира42.
В частности, советские гуманитарии мало участвовали в том бурном развитии культур-антропологии43, которое происходило на Западе (и в остальном мире) и до, и особенно после второй мировой войны. На Западе различные гуманитарные дисциплины (и история, и филология, и даже философия, не говоря уже о востоковедении, в том числе и об индологии) испытали на себе мощное и во многом благотворное воздействие культур-антропологии, которое, среди прочего, способствовало преодолению европоцентризма и однолинейного историзма. Нашим гуманитарным наукам также был бы полезен «культур-антропологический поворот»44 — поворот от «историко-куль- турного монизма» к тому, что можно было бы назвать «историко-
культурным плюрализмом», т. е. к осознанию огромного многообразия мира, в котором «нам внятно» далеко не «всё».
«Поворот» эпистемологический
«Поворот культур-антропологический» должен быть (и неизбежно будет) связан с несколькими другими «поворотами». Один из них можно определить эпитетами «гносеологический» или «эпистемологический» (а также, вероятно, «герменевтический»). Выше речь шла об «эпистемологической гордыне», свойственной «советскому менталитету». С не меньшим основанием можно говорить и о присущей этому «менталитету» «эпистемологической наивности». Восприняв вместе со всем «марксистским пакетом» идею о том, что «бытие определяет сознание», «советская парадигма», однако, мало применяла эту идею к себе самой. Иными словами, «советская парадигма» не обладала (или обладала лишь в очень малой степени) эпистемологической рефлексией. Советские гуманитарные «дискурсы» почти не учитывали свою собственную культурную обусловленность. Теперь представление о культурной обусловленности познания (и не только гуманитарного, но и естественнонаучного) стало у нас, пожалуй, уже общим местом45. Однако эпистемологическая (герменевтическая) рефлексия в гуманитарных исследованиях еще, кажется, не стала общепринятой практикой.
В чем же должна (или может) заключаться эта эпистемологическая рефлексия? Как описывать и анализировать свою собственную культурную обусловленность и свою «герменевтическую ситуацию»? Попытаюсь не слишком пространно изложить свое видение основных моментов, которые, на мой взгляд, следует учитывать сегодняшнему российскому гуманитарию (и, в частности, востоковеду).
Прежде всего надо отдавать себе отчет в своем местонахождении46, т. е. осознавать, из какой «точки» историко-культурного «пространства» оно тобой обозревается. При этом возникает своего рода «герменевтический круг»: местонахождение своей «точки зрения» можно определить лишь исходя из какого-то, хотя бы самого общего и предварительного, знания о «пространстве» в целом, а само это знание во многом зависит от местонахождения «точки»47.
Приведу в этой связи яркое высказывание Вильгельма-Генриха Вакенродера (1773-1798): «Нам, сыновьям века нынешнего, выпало на долю счастье — мы стоим как бы на высокой вершине, а вокруг нас

и у наших ног, открытые нашему взору, расстилаются земли и времена. Будем же пользоваться этим счастьем, и с радостью оглядывать все времена и все народы, и стараться находить общечеловеческое в их чувствах
ив разнообразных творениях, в которые выливаются эти чувства»48.
Вэтих словах немецкого романтика есть несколько характерных «топосов», относящихся к темам «однолинейный историзм», «европоцентризм», и «историко-культурный монизм». Так, молодой немец конца XVIII в. был уверен, что стоит (вместе со своими европейскими современниками) на «вершине» истории и находится поэтому в выигрышной позиции для обозрения всех прочих «времен и народов»49. Более того, он считал себя вправе судить о том, что в других культурах— «общечеловеческое», а что— нет. Очевидно, он полагал (как и многие другие европейские мыслители его времени), что европейское (точнее, западноевропейское) и есть «общечеловеческое» (или во всяком случае содержит в себе верное мерило «общечеловеческого»)50.
Но в данном контексте отметим другое. Метафора «высокая горная вершина» красива, но не вполне удачна: выходит, что выше уже не подняться. Пожалуй, лучше было бы говорить не о стоянии на некоей вершине, а о движении— например, каравана по пересеченной местности или (сохраняя образ горы) о (бесконечном?) восхождении путника извилистой тропой по лесистым склонам горы. С каждой точки маршрута действительно может открываться новая перспектива, но всякий раз что-то может и уйти из поля зрения из-за тех или иных преград. Ныне живущее поколение российских гуманитариев на собственном опыте испытало — и испытывает сегодня — эту подвижность и изменчивость «герменевтической позиции». В нашем быстро меняющемся мире свою «герменевтическую ситуацию» невозможно и не следует воспринимать как неизбежно неизменную, но надо быть «всегда готовым» к расширению горизонта (кругозора) и/или к изменению перспективы.
Далее стоит вспомнить рассуждения о разных масштабах времени известного французского историка Фернана Броделя (1902-1985)51. Он, как известно, различал три «пласта» или, можно сказать, три типа времени52. Первый «пласт» — это «время большой длительности (длинности)» или «очень длительное (длинное) время» («la longue duree»)53. В одной из своих последних работ Бродель сопоставил понятие «1а longue duree» с понятием «цивилизация»54. Второй тип времени — это время достаточно длительных, долгосрочных экономических (хозяйственных) процессов. Наконец, третье измерение — это время, теку-
щее «здесь и теперь», время изменчивых конфигураций, время перемен, непосредственно воспринимаемых людьми, их свидетелями и/или участниками.
В «герменевтической ситуации» также имеет смысл различать несколько временных измерений. С одной стороны, измерение «la longue duree», или, как сказали бы сейчас, измерение «цивилизационное». В нашем конкретном случае речь может идти, например, о русской (российской) истории в целом, т. е. о том, в какой мере наша нынешняя «герменевтическая ситуация» обусловлена нашей принадлежностью к «большому времени» российской истории и русской культуры. На другом конце шкалы можно обозначить измерение «текущего времени» — с той или иной степенью «локализации» (например, «постсоветское десятилетие» или «время после Ельцина» и т. д.)55.
Так или иначе, важно осознавать историко-культурную обусловленность— и поэтому неизбежную ограниченность— своей «точки зрения» (своей «герменевтической ситуации»). Необходимо со смирением отказаться от унаследованной нами (можно сказать, проникшей в подсознание) привычки воспринимать свою «позицию» как привилегированную, как дающую какие-то исключительные преимущества для познания. «Позиция» нынешнего российского гуманитария — лишь одна из многих в современном многообразном мире, причем явно не самая выигрышная и в смысле кругозора, и в смысле имеющейся у него (гуманитария) «фоновой» информации (а также возможности получать новую информацию)56.
Нынешний российский гуманитарий — это человек на «стыке» (перекрестке) времен и культур. В своей работе (и просто в своем существовании) он может ощущать буквально на «собственной шкуре» не только изломы (разломы) времени (от самого «большого»/«длинного» до самого «малого»/«короткого»), но и напряжения (даже конфликты) между различными культурами. Понятно, что к востоковедам это относится едва ли не в наибольшей степени.
То, что мы по-русски сейчас называем «гуманитарными науками»57 (включая, в частности, востоковедение), — это «продукт» западноевропейской культуры, заимствованный и усвоенный Россией (или, во всяком случае, перенесенный в Россию58) в послепетровскую эпоху (то же, разумеется, следует сказать и о науках естественных). Во всех странах гуманитарные науки (где они существуют) находятся теперь в переломном состоянии, обусловленном общемировыми процессами

развития и, в частности (или в первую очередь?), тем, что для кратко- |
Так или иначе, здесь речь идет о российских ученых-гуманитари- |
сти назовем «(информационным) сжатием мира»59. У нас же пробле- |
ях, т. е. представителях именно верхнего образованного слоя. Для боль- |
мы гуманитарных наук связаны, помимо прочего, со старыми про- |
шинства представителей этого слоя значима только новая, послепет- |
блемами соотношения России и Запада. |
ровская, «европеизированная» русская культура64 (а также, в той или |
Разговор (дискурс) об этих сюжетах требует обращения к масштабу |
иной мере, культура западная и, как правило, лишь в малой степе- |
«большого времени» (la longue duree) или, иными словами, к подходу |
ни — культуры незападные). Допетровская русская культура (опять- |
«цивилизационному». Начну с утверждения, с одной стороны, почти |
таки для большинства) — не более, чем музейный экспонат. Право- |
тривиального, но, с другой, вызывавшего и вызывающего горячие |
славие (как отчасти «носитель», хранитель допетровских традиций) |
споры и поэтому требующего большой осторожности и деликатности |
занимает в жизни наших ученых-гуманитариев довольно маргиналь- |
формулировки: Россия в целом — страна незападная60. «Советская идео- |
ное положение и (хорошо это или плохо— другой вопрос) не оказы- |
логия», хотя и противопоставляла СССР «капиталистическому (бур- |
вает сколько-нибудь существенного идейного воздействия65. |
жуазному) Западу», во многом затушевывала (искажала) действитель- |
«Советская идеология» могла создавать впечатление (иллюзию) |
ное соотношение России и западного мира (см. ниже). В постсовет- |
принадлежности России к общеевропейскому (и даже вообще — за- |
ское время это соотношение стало смотреться по-иному и требует |
падному) миру, потому что считалось, что Россия в 1917 г. совершила |
(как, впрочем, и всегда требовало) трезвой оценки. |
«рывок в будущее» и «забежала вперед» по тому же пути, по которому |
Россия (Московское государство) вплоть до XVIII (или даже XIX) в. |
шла и идет Западная Европа (и вообще весь мир). На самом же деле |
не участвовала в западноевропейском «культурном процессе», т. е. в |
(как мы теперь не можем не понимать) в 1917 г. был совершен не |
том культурном развитии Западной Европы, которое сделало этот |
столько «рывок в будущее» всего человечества, сколько откат в про- |
«полуостров Евразии» «бродилом» мировой истории Нового време- |
шлое самой России. В сфере государственного устройства были «ре- |
ни61. В XVIII в. верхний образованный слой России стал энергично и |
ставрированы» (на «новом витке исторической спирали») самодержа- |
жадно усваивать идеи и формы западноевропейской культуры. Со- |
вие и крепостничество. В сфере идеологии был установлен контроль |
временная русская культура (во всяком случае, культура верхнего об- |
над умами, который также можно считать своего рода «реставраци- |
разованного слоя) — это «продукт» (во многом далеко не завершен- |
ей» — но даже не «петербургского», а допетровского прошлого. «Со- |
ный) усвоения и переработки западноевропейской (западной) куль- |
ветская идеология» была причудливой (даже уродливой) смесью, в |
туры культурой незападной. И в этом отношении Россия сопоставима |
которой обрывки западных идей, упрощенных и догматизирован- |
с другими незападными странами, например с Индией62. Повторю: |
ных, сочетались с элементами допетровского наследия, в частности — |
тема весьма деликатна, в нашем языке порой даже не хватает доста- |
с надменным изоляционизмом, проникнутым чувством превосход- |
точно «тонких» и точных слов для ее описания и обсуждения. |
ства над другими странами и культурами («Москва — третий Рим», |
В сегодняшней России есть немалый разрыв между различными |
«Москва — новый Иерусалим», «СССР — авангард человечества», |
слоями и группами «населения» в плане культуры. Даже если гово- |
«СССР — оплот мира и прогресса»). Все это не могло не сказаться |
рить только о собственно русских, дистанция между столичными эли- |
пагубно на отечественных гуманитарных науках. |
тами и жителями «глубинки» весьма велика63. В частности, можно |
Тем не менее, верхний образованный слой даже и в советское вре- |
сказать, что столичные элиты гораздо ближе к западноевропейской |
мя действительно во многом принадлежал к общеевропейскому куль- |
(западной) культуре, чем обитатели «периферии», хотя среди нынеш- |
турному миру. Во-первых, вплоть до 1950-х и 1960-х годов еще жили и |
них русских в целом вряд ли есть много людей, вовсе не затронутых |
работали люди (хотя число их было, наверное, относительно невели- |
западным влиянием (так сказать, «носителей допетровской культуры |
ко), которые получили то или иное образование еще в досоветское |
в чистом виде»). Но, насколько мне известно, культурная стратифи- |
время. Во-вторых, даже советское образование было во многом «за- |
кация русских (и других россиян) в этом плане мало изучена — как и |
падным», так как в его основе была послепетровская, «европеизиро- |
прежде, «мы живем, под собою не чуя страны». |
ванная» русская культура66. Принадлежность (во всяком случае, бли- |

зость) многих образованных «советских людей» западной культуре подтвердилась (по крайней мере отчасти) эмиграцией из СССР и России в 1970-х и в 1980-1990-х годах.
В постсоветское время произошло, с одной стороны, новое сближение России с Западом, а с другой, новое осознание различий между ними. Нельзя исключить, что в предстоящие годы в русской культуре будут усиливаться настроения и направления мысли, противопоставляющие Россию Западу, подчеркивающие ценность тех или иных допетровских составляющих ее культуры (например, православия) и ставящие под сомнение ценность тех или иных западных заимствований в русской культуре (например, понятия о свободе совести и свободе мышления). Если мы уважаем принцип свободы мышления, то мы должны признать, что, по сути дела, никакое западное заимствование в русской культуре не может теперь считаться само собой разумеющимся и данным навеки. Всем элементам культуры (как, впрочем, и русской культуре в целом) предстоит пройти «испытание на прочность и пригодность» и «испытание на взаимную совместимость».
Перед российскими гуманитариями (как и вообще перед всеми россиянами) с новой остротой встала проблема своей «идентичности» (связанная с проблемой «герменевтической ситуации»). В общем виде эту проблему можно сформулировать в виде следующих вопросов. Как осмысленно заниматься той или иной гуманитарной дисциплиной в постсоветской России? Как соотносить универсальный (по происхождению — западный) характер гуманитарных наук со своей принадлежностью нынешней России и со своим пребыванием (Dasein) в ней? Как писать научные работы на русском языке и для русских (россиян)?
Ученый-гуманитарий работает (творит) не в каком-нибудь вакууме и не в «большом времени» (если даже и для него), а в конкретной историко-культурной (и социально-политической) ситуации. В идеале ученый может (и должен?) ориентироваться на вечность, ощущая себя «unmittelbar zu Gott». Но он (ученый) не может не осознавать во многом временный и преходящий характер своей деятельности и ее результатов — хотя бы потому, что эти результаты запечатлеваются в конкретном языке, принадлежащем конкретной и преходящей культуре (будь то язык русский или какой-либо иной). Творчество уче- ного-гуманитария в этом смысле похоже на художественное творчество (писателя или поэта): оно осуществляется (в нормальном случае)
«в режиме диалога» с другими носителями того же языка, той же культуры — и может (даже призвано) способствовать изменению (развитию, совершенствованию) и языка, и культуры.
Конечно, поэт или писатель может, по тем или иным причинам, творить «в стол» — или потому, что озабочен исключительно самовыражением, или потому, что ему опасно (не разрешают) выносить свои творения на публику, или еще почему-либо. Подобным же образом может творить — «в стол» — и ученый-гуманитарий. История советского (да и постсоветского) времени дает нам немало примеров такого творчества. Но вряд ли это следует считать нормой, способствующей здоровому развитию культуры.
Для советского времени было характерно и еще одно не очень здоровое явление в области гуманитарных наук: существовал большой разрыв между наукой элитарной (порой даже почти эзотерической) и наукой «массовой»67. Происходило это не по чьему-либо злому умыслу, а главным образом в силу естественного «инстинкта самосохранения» крупных ученых и нонконформистских «научных сообществ». Некоторые из них умышленно вырабатывали для себя своего рода «птичий язык», как бы и не оспаривающий официальные «дискурсы», но в то же время им более или менее явно противопоставленный68. Естественно, подобные «птичьи языки» были вполне понятны лишь сравнительно небольшому числу «посвященных». Что же касается «широких народных масс», то на их долю оставались в основном лишь «идеологически правильные» «дискурсы».
Один из императивов постсоветского времени — демократизация гуманитарных наук69, подъем общего гуманитарного образования. Разумеется, речь должна идти не о снижении уровня ради общедоступности, но именно о подъеме как можно более широкого круга учащихся70 на уже достигнутые нашей наукой уровни. Демократизация и вообще демократия не предполагают всеобщей уравниловки. В гуманитарных науках, как и в других сферах общественной жизни, не может не быть своей иерархии, своего расслоения на различные уровни. Как есть «поэты для поэтов» или «художники для художников», так могут быть и «ученые для ученых» («философы для философов» и т. д.). Но подобная «иерархиезация» должна быть результатом свободного развития науки, а не угнетающего и уродующего воздействия социальнополитических обстоятельств.
