
ТеорияХудожКультуры
.pdf
Раздел 2. Мифотворчество в истории художественной культуры
ники, не способные к прямому разрыву с системой церковных предписаний, идут по пути механического копирования нормативных образцов, с неизбежно сопутствующим этому процессу снижением общего художественного уровня. В этой ситуации церковь пытается напрямую влиять на ход художественного процесса, еще больше сужая круг эталонных произведений, предназначенных для воспроизведения, при этом теряя способность к творческому решению в сфере догматики и богословия.
Отчаянные попытки кодификации и фиксации традиции свидетельствуют о ее серьезном кризисе. Процесс жесткого закрепления эталонных норм и образцов демонстрирует утрату понимания глубинной сущности учения и подмену понимания смысла механическим копированием внешней формы, все больше и больше теряющей свое содержание. «Кормчая Книга», русский религиозный текст XVI в., обращается к художнику: «И был бы иконописец хитр о подобии древних переводов и первых мастеров, богомудрых мужей <…>, а собою бы вново не прибавлял ни единая оты, аще убо и зело и то мнится смыслити, а кроме святых отец предания не дерзати»23. Наставления художнику, изложенные в «Кормчей Книге», согласуются с требованиями, предъявляемыми к иконописцу отцами Стоглавого Собора писать иконы по старым образцам, «по образу, и по подобию, и по существу, смотря на образы древних живописцев и знаменовати с добрых образцов, “от своего замышления ничтож претворяти” и “от самомышления и своими догадками Божества не описывать”»24.
Сравнивая «Послание к иконописцу» Иосифа Волоцкого и постановления Стоглавого Собора, Л.А. Успенский отмечает, что в «постановлениях Стоглава действительно “уже не видно отношения к труду живописцев как к “умному деланию”, которое было характерно для автора “Послания”. Не видно и того же понимания иконы, какое было у его автора. Последний обращался к людям, единомышленным с ним в практике исихазма и, шире, ко всем тем, для кого они были примером, кто по ним равнялся»25. Лишенные творческой жизненной основы в богословствовании, осуществлявшейся в исихастском «умном делании», основные требования Собора «превращаются лишь во внешние предписания и контроль».
23Цит. по: Успенский Л.А. Богословие иконы. М.: Издательство Московского патриархата. С. 248.
24Там же. С. 247.
25Там же. С. 252.
172

М.В. Гришин. Искусство как форма репрезентации религиозной традиции
В этой связи уместно поставить вопрос о границах религиозного искусства, то есть о той черте, которая отделяла бы творческий акт от механического копирования предписанных образцов. Комментируя решения Стоглавого Собора, Л.А. Успенский делает одно интересное для нашей темы замечание, он пишет, что Стоглавый Собор «проявил здоровое стремление к пресечению игры воображения (“измышления”, “самомышления”, как он ее называет)»26. Но возникает вопрос, не является ли игра воображения, или «самомышление», некоей сердцевиной, ядром не только художественного, но и вообще любого творчества? И если является, то насколько «здоровым» будет стремление к ее пресечению?
Другая проблема связана с взаимоотношением собственно художественно-эстетической и догматической, вероучебной составляющих внутри произведения сакрального искусства. С одной стороны, красота является важным качеством или признаком произведения священного искусства, но вызываемый таким произведением эстетический эффект никогда не будет иметь в пределах сакрального памятника самодовлеющего, самоценного значения. Сияние золотых окладов, золотое свечение заднего плана икон. На его фоне разворачиваются события Священной истории, являются только тусклыми отблесками Божественного Света, своим блистанием, по словам св. Дионисия Ареопагита, превращающего Солнце во тьму. Одна из главных функций сакрального произведения – анагогическая, то есть возвышение человеческой души посредством созерцания материальных объектов к умопостигаемым божественным сущностям, например, от физического света к нетварному, который, по учению исихастов, содержит в себе энергии Божества.
Тогда подлинная красота и гармония, содержащаяся в физической форме, будет заключаться в ее способности репрезентировать красоту и гармонию нетварного мира, чьим несовершенным подобием она является. Сакральная форма, как писал М. Маклюэн, должна давать представление не о свете, что скользит по непроницаемой поверхности предметов, а выявлять свет, который проникает сквозь предметы, делая проницаемыми и почти прозрачными любые материальные тела. Произведение сакрального искусства, в композиционном и иконографическом плане опирающееся на принципы покоя, неподвижности, симметрии, устойчивости и гармонии, как уже говорилось выше, выступает
26 Цит. по: Успенский Л.А. Богословие иконы. М.: Издательство Московского патриархата. С. 252.
173

Раздел 2. Мифотворчество в истории художественной культуры
в качестве зримой репрезентации незримого мира, являющего собой высший предел красоты и совершенства. Кроме того, как писал Т. Буркхардт о буддийской скульптуре, «можно сказать, что духовная норма, которую передает сакральный образ Будды, сообщается зрителю как психофизическая установка, весьма характерная для врожденного поведения монгольских народов буддийской веры. В этом есть нечто подобное магической связи между почитателем и изображением: изображение пронизывает телесное сознание человека, а человек как бы мысленно проецирует себя на образ; обнаружив в самом себе то, что выражается этим образом, он передает это в виде невидимой внутренней силы, которая с этого времени изливается на других»27.
Но если красота, наблюдаемая в физическом материальном объекте, есть красота, поскольку и когда она проявляется как отражение красоты эйдетической, и в силу своего умопостигаемого характера может и должна передаваться посредством строго фиксированной знаково-символической и количественно-из- мерительной систем, то на этапе кризиса традиции наблюдается механическое копирование художественных знаков, лишь обозначающих, а не воплощающих красоту.
С предельной остротой проблему границ религиозного искусства сформулировал французский философ А. Безансон в работе «Запретный Образ. Интеллектуальная история иконоборчества». В ней он писал, что на закате традиции «икона действительно становится башней крепости замкнутого мира, в котором она обретает смысл либо благодаря приобщающему богословию (для знатоков), либо в магии (для людей попроще), и смысл этот сродни империалистическому, в котором икона обозначает успехи и неудачи правильного мировоззрения. На этом пути икона все более лишается содержания, вплоть до того, что становится пустотой. Но из пустоты она сокрушает все, что находится вне ее. Я уже приводил в качестве примера сравнение, которое Успенский провел между Мадонной Рафаэля и московской иконой Богоматери, и это сравнение ошеломляет, если посмотреть на ту и на другую»28.
Другое обвинение, предъявленное Безансоном православной иконе, заключается в «неспособности икон обрисовать мир земной. Хотя этот мир, как это неоднократно доказано западным искусством, прославляет божественное, он почти полностью
27Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада // Пер. с
англ. М., 1999. С. 166.
28Безансон А. Запретный образ / Пер. с фр. М., 1999. С. 157.
174

М.В. Гришин. Искусство как форма репрезентации религиозной традиции
отсутствует в чисто религиозной поздневизантийской живописи, от Балкан до допетровской Руси. Священное и культовое искусство порождает вокруг себя пустоту»29.
Главу, посвященную православной иконописи, Безансон завершает следующим абзацем: «В культовом использовании все иконы равны. Для молитвы годится и самая бездарная. С этой точки зрения нет разницы между Сикстинской Мадонной и ка- кими-нибудь “лурдскими мадоннами” из гипса, раскрашенными синей и белой краской. Бессмысленно смешивать ценность божественного образа, обеспеченную богословием, с ценностью эстетической, которую богословие отнюдь не гарантирует. Здесь мы вновь обнаруживаем отмеченный Соловьевым византийский разрыв между совершенством принципа и несовершенством факта. Для того чтобы вознести произведение до высоты принципа, нужен огромный труд художника. Довериться богословию, намериваясь подняться к небесам, – это обзавестись крыльями Икара и рисковать падением на землю, а то и еще глубже»30.
Слабость позиции А. Безансона, несмотря на то что он, несомненно, подметил ряд «проблемных мест» сакрального искусства, заключается в том, что он дает оценку произведениям искусства, представляющим православную традицию, используя римско-католические и новоевропейские критерии художественности произведения. И проблема здесь заключается не только
вэстетической, но и функциональной стороне дела. В сакральном искусстве эстетический аспект действительно вторичен по отношению к вероучебному. Но и сами произведения сакрального искусства создаются не с целью удовлетворения эстетических потребностей зрителя, слушателя или читателя. Их основное назначение – культовое. Отсюда неразрывная связь в произведенияхправославногоискусстваэстетическойибогословскойоценки. Как писал Л.А. Успенский, «эстетическая оценка произведения неразрывно сливалась с оценкой богословской, и искусство богословствоваловэстетическихкатегориях.Богословскийкритерий
вотношении к образу еще остается решающим и в некоторых памятниках XVII века, но лишь в области иконографической»31.
Безансон, ставя под вопрос принадлежность иконы как таковой к искусству и исключая православную иконопись из сфе-
29Безансон А. Запретный образ / Пер. с фр. М., 1999. С. 157.
30Там же. С. 160.
31Успенский Л.А. Богословие иконы. М.: Издательство Московско-
го патриархата. 1996. С. 282.
175

Раздел 2. Мифотворчество в истории художественной культуры
ры художественного творчества (за исключением нескольких гениальных работ, принадлежащих кисти Андрея Рублева, Дионисия и еще некоторых мастеров), опирается на идею автономной эстетической самоценности художественного произведения. Действительно, католическая традиция не породила иконоборческих концепций, потому что внутри нее отсутствовала богословская проблема изобразимости материальными средствами искусства трансцендентного Бога и концепция образа как точного отражения своего божественного оригинала. Как пишет А. Безансон, сравнивая культовое искусство христианского Востока и христианского Запада, в католической традиции по сравнению с православной «образ как таковой занимает скромное место среди средств освящения, в качестве компенсации ему предоставлена возможность самым эффективным способом выполнять порученную ему роль. От образа, сведенного к простому материальному предмету, не станут требовать строгого соответствия богословской истине, которая выше него. От него, в отличие от икон, не ждут подчинения застывшим схемам»32. В западной традиции мы обнаруживаем совершенно иной статус церковного образа, нежели на Востоке. По словам Безансона, основные функции священных изображений в католических церквях: memoria и ornamentum. «Какова же иерархия священных предме-
тов? Во-первых, священные дары, потом крест, но не как предмет, а как mysterium и эмблема Христа, потом писания, потом священные сосуды, наконец, реликвии святых. Образы в списке не значатся. Они к transitus (то есть переходу от материальных форм к божественному прототипу совершенно иной природы) отношения не имеют. Священное изображение, таким образом, сохраняет прочную связь со светским существованием, оно по природе мирское»33. В то же время победа православной церкви над иконоборческой ересью отмечается в восточнохристианской традиции как Торжество Православия, праздник победы иконы и окончательного торжества догмата Боговоплощения.
Напротив, католические иерархи учили, что «образы следует почитать не из-за того, “чем они являются”, а из-за того, “о чем они говорят”. В связи с этим личное настроение художника может не приниматься во внимание. Восточный иконописец готовился к своей работе очистительной молитвой. Авторы каролингских книг считали, что сама работа художника ни набожна,
32Безансон А. Запретный образ / Пер. с фр. М., 1999. С. 165.
33Там же. С. 167.
176
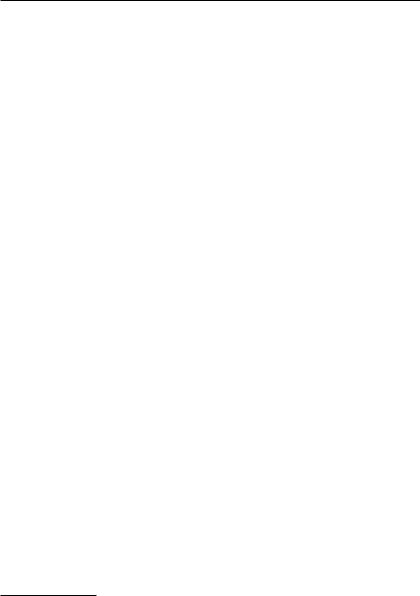
М.В. Гришин. Искусство как форма репрезентации религиозной традиции
ни скверна. С полным безразличием художник может рисовать благочестивые деяния и злодеяния негодяев. Такая моральная нейтральность по отношению к искусству как таковому была благотворна для свободы художника, чья личная нравственность к творческому процессу отношения не имела и следить за ней нужды не было. Церковь без опасений могла заказывать работу Содоме или Караваджо. Она принимала во внимание лишь готовое произведение»34.
Как писал «ангелический доктор» Фома Аквинский, один из отцов высокой схоластики, «искусство проверяется лишь произведением и поэтому заранее не предполагает справедливых чувств. В ремесле от ремесленника не требуется хорошего поведения, от него требуется хорошее изделие. Скорее уж от произведения можно требовать хорошего поведения, как от ножа требуют, чтобы он хорошо резал, от пилы, чтоб хорошо пилила, если бы они могли действовать сами, по своей воле. Поэтому и искусство нужно умельцу не для добродетельной жизни, а для того, чтобы изготавливать хорошие изделия и сохранять их»35. Спустя почти семьсот лет после Аквината его мысль несколько иначе повторил Оскар Уайльд: «Если ваш повар приготовил вам скверный ужин, для вас очень слабым утешением послужит тот факт, что этот повар – замечательный человек».
Из вышеизложенного очевидно, что начало процесса обособления художественного творчества, его превращение в независимую от Церкви автономную самодовлеющую систему, «запущенное» на Западе Ренессансом, было заложено уже в самой католической религиозности. Как писал А.Ф. Лосев, «сразу же необходимо обратить внимание на то, что и номинализм, и немецкая мистика, да и связанный с ними аллегоризм старались как можно ближе поставить объективную действительность к человеческому субъекту, сделать ее наиболее понятной для него, или, как мы теперь иногда говорим, превратить всю существующуюдействительностьвнечточеловеческидоступное,человечески обозримое, человечески имманентное. Красота уже перестает быть какой-то запредельно существующей действительностью, которая в нашем конкретном мире как-то слабо отражается. Вот в чем новость: она стала целиком понятной, целиком доступной человеческому субъекту, целиком имманентной»36. Имманент-
34Безансон А. Запретный образ / Пер. с фр. М., 1999. С. 166.
35Цит. по: Безансон А. Запретный образ / Пер. с фр. М., 1999.
С. 165.
36 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998. С. 222–223.
177

Раздел 2. Мифотворчество в истории художественной культуры
ный характер католической религиозности иллюстрируется А.Ф. Лосевым на материалах истории францисканского ордена, прославленного своей суровой аскетической традицией. «В одной повести францисканского цикла рассказывается о том, как св. Франциск однажды повелел своим монахам открыто говорить о Боге все, что они чувствуют, но, как только они начинали это делать, он тотчас же приказывал говорившим монахам молчать: “ВовремяэтойбеседыявилсяпосрединихблагословенныйХристос в виде и образе прекраснейшего юноши и, благословляя их всех, преисполнил их такой сладости, что все лишились чувств и лежали словно мертвые, не слыша ничего из этого мира». Здесь, пишет А.Ф. Лосев, «имманентистская эстетика настолько ясна, что вполне доходит до чувственного натурализма, несмотря на выступление самого главы и основателя всей христианской религии»37.
Для православной мистики характерна установка на дости- жениесостояния«духовноготрезвения»,адлякатолической–на экстатические состояния. А.Ф. Лосев так формулирует основные отличия в психологических установках православных и католи- ческихмистиков:«Мистик-платоник,какивизантийскиймонах (ведь оба они, по преимуществу греки), на высоте умной молитвы сидят спокойно, погрузившись в себя, причем плоть как бы перестает действовать в них, и ничто не шелохнется ни в них, ни вокруг них (для их сознания). Подвижник отсутствует сам для себя; он существует только для славы Божией. Но посмотрите, что делается в католичестве. Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Дух Святой является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: “Дочь Моя сладостная Мне, дочь Моя храм Мой, дочь Моя услаждение Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь Меня”. Блаженная Анжела просит Христа показать ей хоть одну часть тела, распятого на кресте; и вот Он показывает ей шею. “И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Тотчас же прежняя печаль моя превратилась в такую радость и столь отличную от других радостей, что ничего не видела и не чувствовала, кроме этого. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. И тогда уразумела я, что красота эта исходит от Божественности Его. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей”. В довершении всего Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена была ко кресту, а она, вся исходя от томления муки
37 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998. С. 224.
178

М.В. Гришин. Искусство как форма репрезентации религиозной традиции
и счастья, говорит: “Иногда от теснейшего этого объятья кажется душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала и отнимался у меня язык…”»38.
Здесь важно подчеркнуть, что за средневековой западной традицией, рассмотренной как целое, не отрицаются попытки воплощения трансценденции в художественной форме, хотя, по словам Т. Буркхардта, лишь два течения, «традиционное искусство иконописи и ремесленные традиции, – вместе с определенной литургической музыкой, развившейся из пифагорейского наследия, являются единственными элементами в христианской цивилизации, достойными называться “сакральным искусством”»39. Дело в том, что на христианском Западе, наряду с собственно сакральным искусством, начинает вырабатываться новый художественный язык, который стирает грань между сакральными и мирскими образами.
Интересно, что в определенном смысле эта граница между сакральным и мирским искусством отсутствовала и на средневековом Востоке. Но там священная духовная традиция и соответствующий ей художественный язык распространяли свое влияние на сферу мирского искусства, наделяя их сакральным статусом. В то время как на Западе именно культовое искусство начинает заимствовать свои техники из «профанной» сферы.
Культовое искусство прибегает к светским формам выражения, и различие между образом собственно христианским или языческим, церковным или мирским коренится только в сюжете. Оценка произведения переводится из богословского плана
всферу эстетики и техники исполнения.
Ввосточнохристианском типе культуры присутствует четко выраженная граница между сакральным и профанным мирами. Как писал В.Н. Топоров, «идея святости в ее “русском” варианте
вразных культурно-исторических контекстах порождала такие явления, как пренебрежение сим миром и упование исключительно на иное царство. Но сакральность (или даже гиперсакральность) древнерусской традиции проявляется прежде всего
втом, что 1) все в принципе должно быть сакрализовано, освящено и тем самым вырвано из-под власти злого начала (ср. древне-
38Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада // Пер. с
англ. М., 1999. С. 884–885.
39Буркхардт Т. Указ. соч. С. 51.
179

Раздел 2. Мифотворчество в истории художественной культуры
иранский дуализм и более поздние учения манихейского толка) и – примириться с меньшим нельзя – возвращено к исходному состоянию целостности и нетронутости; 2) существует единая и универсальная цель (“сверхцель”), самое заветное желание и самая глубокая мечта и надежда – святое царство (святость, святое состояние, святая жизнь) на земле и для человека; 3) сильно и актуально упование на то, что это святое состояние может быть предельно приближено (или даже само открыться, наступить) в пространстве и времени hic et nunc (литургия уже есть образ этого состояния; отсюда стремление расширить литургическое время и известное невнимание к профаническому)»40.
А.Безансонобвинялправославнуюиконувнеспособностиобрисовать мир земной, хотя наш мир, «и это неоднократно доказано западным искусством, прославляет божественное». Но именно здесь и коренится радикальное различие двух картин мира. Православная традиция стремится распространить границы сакральной сферы на тварный мир, осознавая пропасть, лежащую междуними,втовремякаккатолическаяобмирщаетсакральное посредством искусства, делает его максимально человеческим и мирским. И.П. Уварова в исследовании, посвященном рождественским вертепам, проводит интересное сравнение между восточнославянским вертепом и итальянским презепе. Для восточнославянского вертепа характерна как бы «двухэтажная» структура: верхняя часть – сакральный мир, нижняя – профанная и даже демоническая сфера («мир во зле лежит» и «дьявол Князь мира сего»). В то же время в итальянском презепе воспроизводится модель городской площади, и таинство Рождества переносится в самую гущу обычной повседневной жизни. По сути Ренессанс и вся дальнейшая история новоевропейского искусства есть отказ от сакральной традиции, состоящий из двух этапов. На первом этапе возникает идея образа как материального объекта, ценность которого определяется исключительно мастерством исполнения и эстетическими достоинствами и, что является самым важным, неспособным воплощать сакральное в себе самом. В XIII–XIV вв. на Западе появляются философские доктрины, настаивающие на невозможности непосредственного богопознания (в отличие от доктрин византийских исихастов той же эпохи) и предлагающие вместо непосредственного
40 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1998. С. 438, 480.
180

М.В. Гришин. Искусство как форма репрезентации религиозной традиции
богообщения в мистическом созерцании познавать Художника по его Творению, то есть изучать книгу природы, проникновение в тайны которой единственно возможный путь, ведущий человека к Богу. За несколько столетий до Канта теологи Запада утверждали,чточеловекспособенпознаватьтолькофеномены,мир явлений и должен рассматривать природу как нечто автономное от трансцендентного мира. Именно с того времени и до начала ХХ в. искусство пошло по пути изображения чувственно воспринимаемого мира даже в религиозных сюжетах. Более того, сама трансцендентность оказалась доступной для понимания и выразимой только через имманентное. Изображение Страстей Христовых, например у Матиаса Грюневальда, принимает характер документалистски точного воспроизведения гноящихся ран, запекшийся крови, бледного, искаженного смертельным страданием Лика Спасителя. Вспоминаются удивительно точные слова князя Мышкина из романа «Идиот», сказанные о «Мертвом Христе» Ханса Хольбейна, хранящегося в Базельском художественном музее: «От такого Христа может и вера пропасть». И действительно, на картине с высочайшим художественным мастерством изображено мертвое тело, для которого не может бытьВоскресения.«МертвыйХристос»Хольбейна–этоабсолют- ный апофеоз смерти, хотя сам художник, видимо, ставил перед собой задачу изобразить величие жертвы, Страстей и смерти на Кресте, которую Спаситель претерпел за падшее человечество. Возникновение подобного иконографического типа изображения Страстей Христовых было возможным только на католическом Западе, где мистики в состоянии медитации часто визуализировалиобразРаспятогоХристаипыталисьсовсейвозможнойсилой прочувствоватьЕгострадание,отождествивсебясНим,вплотьдо появлениястигматовнателе.Всвоюочередь,пословамГ.П.Федотова, «типичной византийской иконой является Пантократор, Господь Всемогущий. На ней образ Христа представлен во Славе, восседающим на Престоле Небесном. Нельзя с уверенностью сказать, видим ли мы лик Христа или Самого Вечного Бога. Христос Судного Дня или “Страшного Суда”, как говорят греки, – не Спаситель, а Судия, ожидаемый верующими. Византия не знала других, более соответствующих Евангелию ликов Христа, за исключением изображений двунадесятых праздников (сцен из Евангелия), на которых Его фигура является только одной из многих. Икона Пантократора подводит нас к самому центру византийской набожности. Это – поклонение великому всемогу-
181
