
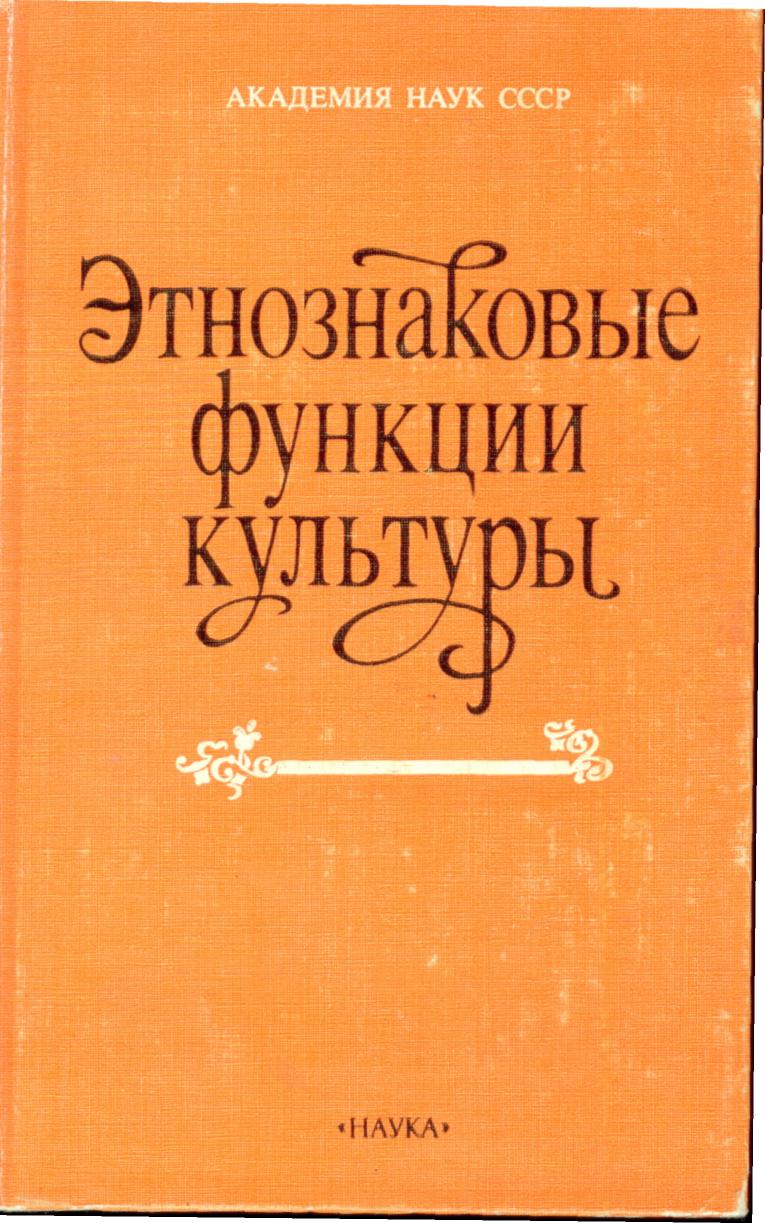
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

функции
Ответственный редактор
академик 10. В. БРОМЛЕЙ
МОСКВА НАУКА 1991
ББК 63.5 Э 91
Редакционная коллегия:
СОДЕРЖАНИЕ
академик
Ю. В. БРОМЛЕЙ
А. К. БАЙБУРИН, Я. В. ЧЕСЫОВ
Рецензенты:
доктор исторических наук В. В. ПИМЕНОВ,
кандидат исторических наук Н. Б. ТЕР-АКОПЯН
Э 91 Этнознаковые функции культуры.— М.: Наука, 1991.-224 с. ISBN 5-02-009994-5
Этпознаковая символика сплочения — разграничения, разрешения - запрещения зародилась в глубокой древности. Представления человека о времени и пространстве, о труде и нормах поведения с древнейших времен несут на себе отпечаток локального и культурного своеобразия. В сборнике ведущие специалисты-этнографы рассматривают явления культуры под углом зрения выявления ее этнической специфики.
Для этнографов, искусствоведов, культурологов.
„ 0505000000—367
Э
042
(02)-91
S15-D0-I ББК
63.5
Научное издание
ЭТНОЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ
Утверждено к. печати
Ордена Дружбы народов Институтом этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР
Редактор издательства С. И. Висильчен-ко
Художник Н. Ф. Дербенг^ев
Художественный редактор Я. Д. Вогачев
Технический редактор Н. II. Плохоеа
Корректоры Р. С. Алимова, Е. Н. Белоусова
ИБ № 461052
Сдано в набор 3.04.90 Подписано к печати 10.12.90 Формат S4xlOS'/M Бумага кн.-журнальная. Импортная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11.76. Усл. кр. отт. 11,97. Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 1000 экз. Тип. зак. 424 Цена 3 р. 20 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90.
2-я тип. издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский
пер., 6
ISBN 5-02 009991 5 © Издательство «Наука», 1991
Ю. В. Вромлей А. К. Байбурин
В. X. Бгаокноков Я. В. Чеснов Б. А. Фролов П. М. Кожин
И. И. Земцовский
А. Л. Топорков
Л. С. Перепелкин
Предисловие
Этнические функции культуры
и этнография
Ритуал в системе знаковых
средств культуры
Культура общения п семпознс
Этнический образ
Предыстория символа
О древних орнаментальных
системах Евразии
Артикуляция фольклора
как знак этнической культуры
Структура и функции сельского застольного этикета у восточных славян Стимулирование труда: интерес, ценность, наказание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Разные сферы культуры неодинаково выполняют роль сплачивающего или различающего средства для различных видов этнических образований. Поэтому в исследовании этнических общностей все большее место занимает рассмотрение разнообразных функций культуры. Одной из существенных среди них и вместе с тем слабоизученных выступает этнознаковая роль культуры. Ее изучение находится в поле внимания лингвистики, фольклористики, искусствознания, археологии, психологии и других смежных наук.
Отсюда большая трудность, стоящая перед авторами сборника: неоднозначное понимание традиции специалистами разных профилей. Традиция, которая в широком смысле рассматривается не как вычлененная сфера, а как способ существования культуры, не сводится просто к не-\ которой повторяемости (устойчивость, порядок, урегули-рованность). В широком понимании традиция является механизмом, предполагающим определенные установки и деятельность. И в этом случае этнограф оказывается перед сложными и нигде еще в других науках не решенными проблемами мотивационных категорий (идеал, символ, образ) и социальных норм (обычай, этикет).
При широком понимании традиции, к которому склоняются многие советские этнографы, традиционно-бытовая культура выступает средоточием этнической специфики. От этого последняя отнюдь не становится столь очевидной, что теоретическая работа в области этнографии становится излишней. Скорее наоборот.
Разумеется, что в сборнике, посвященном актуальным проблемам этнографической науки, трудно ожидать единообразия мнений его авторского коллектива. Статьи сборника, дополняя в чем-то друг друга, выносят на суд читателя определенное различие трактовок проблемы этно-знаковых функций культуры, которое, очевидно, коренится в разном понимании традиции. Тем не менее такой плюрализм, естественный для любой актуальной проблематики, может быть полезным для дальнейшего совершенствования этнографического изучения культуры.
Ю. В. Бромлей
ЭТНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГРАФИЯ
![]()
Культура, как известно, выполняет самые разнообразные функции. В частности, в нашей научной литературе выделяются следующие «технические» функции культуры: 1) инструментальная функция, с которой в первую очередь связана «механическая» техника, выступающая преимущественно как специфическая система средств совместного воздействия человеческих индивидов на материальную среду; 2) нормативная функция, сопряженная с «организационной» техникой («соционормативной» культурой) как специфической системой средств организации коллективной жизни; 3) сигнификативная функция, выражающаяся в «символической» («знаковой») технике как специфической системе средств, благодаря которой осуществляются умственные и эмоциональные действия человека; 4) коммуникативная функция, неразрывно связанная со знаковой техникой, обеспечивающая общение людей '.
Наряду с этими «техническими» функциями культуры, в известном смысле простирающимися на все общество, можно выделить ее «специфические» функции, связанные с обеспечением отдельных видов социальных потребностей. Таковы, например, эстетическая, познавательная и религиозная функции. Все они в той или иной степени пересекаются с «техническими» функциями культуры. Каждой из них соответствует особая сфера культуры, однако их проявление данными сферами обычно не ограничивается (например, эстетическую функцию выполняет не только такая сфера культуры, как искусство, но и другие ее сферы).
Среди выполняемых культурой многочисленных ролей представляется правомерным особо выделить ее этническую функцию. Эту функцию, на наш взгляд, выполняет
© Ю. В. Бромлей, 1990
5
совокупность этнодифферепцирутощих и этпотштегрируто-щих свойств культуры.
Эти последние, весьма существенные в рассматриваемом нами контексте свойства культуры, теснейшим образом сопряжены с остальными функциями культуры, нередко выступая фактически в качестве одной из их сторон. Более того, фактически этнические функции выступают в качестве своеобразного дополнения к основным функциям культуры. Как известно, особенно характерно такое «дополнение» к традиционным компонентам культуры, хотя это не исключает выполнения этнических функций и культурными инновациями.
Обычно при характеристике этнических общностей особое внимание уделяется дифференцирующей функции. И это, как мы сможем еще раз убедиться ниже, имеет под собой определенные основания. Однако было бы неверно, чтобы такой подход полностью заслонил этиоин-тегрирующие функции культуры. Ведь при всей зиачимо-\J сти свойств, выделяющих каждый этнос среди других аналогичных общностей, непременным и важнейшим условием его существования как целостной системы остаются интегрирующие функции культуры. Лишите этнос внутренних культурных связей — и он неизбежно разрушится.
Известно вместе с тем, что интегрирующие этнос культурные компоненты сами по себе далеко не однородны. Они различаются не только по своим основным функциям, но и по пространственным параметрам. А это придает культуре этноса своеобразную многослойность. В свою очередь в такого рода многослойное™ можно выделить несколько уровней. Наиболее «глубинным» и в то же время «макромасштабным» является тот, что относится к общечеловеческим чертам. Они связаны прежде всего с удовлетворением простейших потребностей людей. И не только в наше время, но и в далеком прошлом не так уж много было народов, не знавших, например, жилища или одежды, не говоря уже об орудиях труда. Естественно, что этот «глубинный» слой культуры не выполняет этноднфференцирующих функций. И этнографа он фактически не интересует, ибо его наличие у каждого этноса предполагается априори.
Следующий слой культуры, которым обладает значительное число этносов, охватывает обычно значительную часть континента (субконтинент), а иной раз целый континент или даже несколько их; условно такой слой может
быть назван «субконтинеитным» или континентальным. Примером этого может служить, в частности, наличие в традиционном жилище народов Европы двух основных типов. Один из них представлен каркасно-столбовыми постройками с косыми балками-консолями, пространство между которыми заполняется не несущими вертикальной нагрузки материалами (так называемой «фахверк»). Другой — срубный дом из горизонтальных бревенчатых венцов. Если первый характерен главным образом для Западной Европы (от Англии, Франции и Скандинавии до Австрии и Балкан), то второй — для Восточной (для поляков, белорусов, русских, финноугорских и тюркских народов Поволжья), хотя известен также в Альпах и Пиренеях. Не менее показательно и деление одежды на два основных типа: несшитую и сшитую. Наиболее древними, судя по всему, являются различные виды несшитой одежды, ведущие свое происхождение от набедренных повязок. Но уже в верхнем палеолите, очевидно, в связи с похолоданием, имевшим место 38—35 тыс. лет тому назад, появляется сшитая одежда. Охотники того времени, населявшие северные полосы Европы и Азии, стали носить меховые штаны и куртки.
В поле зрения этнографов должны находиться и те пространственные особенности культуры, которые связаны с хозяйственно-культурными типами (ХКТ). Под таковыми, как известно, в нашей этнографической науке принято понимать определенные комплексы хозяйства и культуры, каждый из которых может быть одновременно характерен для нескольких народов самых различных частей ойкумены.
Привлекают внимание этнографов и такие ареально-культурные образования, как историко-этнографические области. Под таковыми в нашей специальной литературе понимаются части ойкумены, у населения которых в силу общности социально-экономического развития, длительных связей и взаимного влияния сложились сходные культурно-бытовые черты \ Эти черты проявляются как в материальной, так и в духовной традиционной культу-туре, особенно в тех ее элементах, что несут эстетическую нагрузку. Нередко такого рода черты в значительной мере обусловлены природной средой (не случайно историко-этнографические общности в большей или меньшей степени совпадают с географическими ареалами).
Одна из непосредственных задач этнографической науки - исследование так называемых метаэтничеекпх
6
7
общностей3. Имеются в виду образования, охватывающие несколько основных этнических подразделений, но об" ладающих этническими свойствами меньшей интенсивности, чем каждое из таких подразделений. При этом мета-этнические общности отличаются чрезвычайным разнообразием по своему генезису, системообразующим компонентам, масштабам.
При всей значимости всех рассмотренных слоев культуры этноса для его функционирования все же важнейшая роль в данном отношении принадлежит тем компонентам его культуры, которые обладают типичными для него чертами. Правда, нам уже приходилось отмечать, что было бы неверно абсолютизировать специфику таких черт, считая, что они полностью принадлежат ему одному 4. Такого рода «абсолютные» особенности несомненно имеют место в сфере культуры: например, в подобной роли нередко выступают специфические формы отдельных предметов культуры (формы различной домашней утвари, украшений, орнаментов и т. п.). Но удельный вес этих «абсолютно» отличных элементов культуры в каждой этнической общности сравнительно невелик 5. Более того, по мере усиления культурных контактов между народами таких возникших в прошлом особенностей становится все меньше и меньше. Вновь же появившиеся в той или иной этнической единице специфические явления культуры быстро становятся достоянием других народов.
В силу взаимодействий культур, а также определенной культурной конвергентности в развитии народов преобладающая часть этнических особенностей в сфере культуры имеет, так сказать, относительный характер 6.
Наконец,— и это весьма существенно в интересующем нас отношении,— каждый значительный компонент этноса по-своему выражает этническую специфику, притом далеко не одинаково в разных конкретно-исторических ситуациях. Соответственно определение задач этнографии при изучении этиодифференцирующих свойств культуры этноса предполагает ее покомпонентное рассмотрение.
Обычно легче всего поддаются фиксации этнические особенности в опредмеченных результатах человеческой активности, прежде всего в материальной культуре. Не случайно ее традиционные виды уже давно привлекают пристальное внимание этнографов во всех странах, где существует эта дисциплина (или ее ближайшие аналоги). Как нам уже приходилось отмечать, советская этно-
8
графическая наука не представляет исключения в данном отношении 7, внося существенный вклад в изучение таких компонентов материальной культуры, как сельскохозяйственные орудия, поселения, жилище, одежда, домашняя утварь, пища и т. д. Исследования эти касаются многих, если не всех, народов СССР, а также ряда зарубежных стран.
Рассматривая обычно каждый из этих компонентов культуры как целостное исторически изменяющееся явление, всесторонне характеризуя его, наша этнографическая наука тем самым в значительной мере выполняет функции истории материальной культуры.
Выполнение этнографами роли историков материальной культуры, к сожалению, нередко приводит к тому, что, так сказать, «вещеведческий» аспект изучения отдельных видов материальной культуры, прежде всего их описание, заслоняет основную задачу этнографических исследований. Правда, определенный сдвиг в этом отношении уже есть. В частности, развернувшаяся в последнее время работа над историко-этнографическими атласами позволяет выявить конкретные ареалы отдельных компонентов материальной культуры (земледельческих орудий, одежды и др.). Положено начало сравнительно-типологическому изучению отдельных видов материальной культуры.
Дальнейший прогресс научного знания требует, на наш взгляд, более четкой специализации в изучении истории материальной культуры. Все ощутимей становится отсутствие в исторической науке особой отрасли, главной целью которой явилось бы изучение закономерностей развития материальной культуры, конкретно-историческое описание ее форм и классификация их. Существование такой дисциплины позволило бы этнографам сосредоточиться на решении своих непосредственных задач. Но, конечно, пока специальные исследования материальной культуры не будут развернуты, этнографы должны продолжать соответствующие изыскания.
И все же этнограф не выполнит своих непосредственных задач, если не выявит в изучаемых компонентах материальной культуры их этническую специфику. В этом и состоит отличие подхода этнографии от подхода представителей дисциплин, специально изучающих «основные» функции такого рода компонентов. Так, в отличие от кулинарии этнографию интересуют не сами по себе рецептуры и процедуры приготовления пищи, не ее калорийность, которой занимается нутрициология, а в пер-
9
йую очередь этнические особенности этого компонента культуры.
Следует также подчеркнуть, что поскольку этнической спецификой обладают преимущественно традиционные формы материальной культуры, именно они обычно и оказываются в центре внимания этнографов.
С традиционными формами материальной культуры весьма тесно связаны такие компоненты обыденного сознания, как различные виды народных знаний. К их этнографическому изучению полностью относится все то, что сказано в данной связи об изучении самой материальной культуры.
Переходя к рассмотрению этнических функций, так сказать, динамизированной части культуры, т. е. выраженной в действиях, следует прежде всего учитывать, что в любой человеческой группе поведение людей не представляет прямую реакцию на внешние стимулы, а опосредовано культурой. Даже инстинктивная, неосознанная реакция людей обычно происходит по определенным «правилам игры», не зная которой, невозможно уяснить жестов, звуков, движений. «Культура вырабатывает и постоянно пополняет запас собственных и необходимых имен, значений, знаков, с помощью которых добытая информация закрепляется, включается в деятельность» 8.
Знаки, внешне выраженные значения явлений, могут иметь либо условный, либо реальный характер (например, местные особенности одежды). Условные знаки в свою очередь делятся на неспециальные и специальные. Роль неспециального знака может сыграть, скажем, отдельное дерево, специальные знаки — жесты, знаки уличного движения, знаки различия, ритуалы и т. п. Весьма своеобразные условные знаки — маски. Они воистину многолики, выполняя у разных народов далеко не одинаковые функции: от устрашения до развлечения.
Знаковая функция культуры именуется сигнификативной (буквально: означивающей, приписывающей значения) . Разумеется, изучение данной функции культуры представляет немалый интерес для этнографии, ибо знаки и значения выполняют, как правило, и этпоинтегри-рующую, и этнодифференцирующую роль. При этом внутреннее сигнификативное единство культуры этноса, т. е. заложенная в ее компонентах информация, читаемая определенным образом в общем ее контексте и тем самым программирующая конкретную деятельность, вместе
с тем выполняет этнодифференцирующую функцию, отличая один народ от другого. Весьма наглядную иллюстрацию этого мы находим у С. А. Арутюнова, характеризующего сигнификативные функции невербальной части культуры. В этой связи он, в частности, отмечает, что когда говорят друг с другом два человека одной этнической культуры, например немец с немцем, то любое простейшее бытовое указание типа: «Пойди на кухню и приготовь себе завтрак» — дополняется в сознании самой обстановкой кухни, теми или другими предметами утвари, набором продуктов, которые сами по себе несут информацию, понятную в контексте данной культуры, содержат в себе программу деятельности более широкую, чем та, что была в речевой форме. Однако она будет непонятна человеку другой культуры, например эскимосу или эвенку, даже если общий смысл речевого указания им ясен. И, наоброт, эвенк-охотник, входящий в безлюдную таежную избушку, понимает информацию, оставленную его предшественниками в виде предметов культуры, тогда как тот же немец в подобной ситуации может оказаться совершенно беспомощным 9.
Этиодифференцирующая функция знаковых свойств культуры, разумеется, проявляется лишь при условии контактов между этносами. Поэтому один и тот же элемент культуры может в одном случае выражать этническую специфику и не иметь ее в другом. Например, католическая религия имела этническую марку там, где хорваты общались с сербами, и не имела такой марки в контактной зоне хорватов и венгров, которые в значительной части тоже были католиками. Равным образом наличие юбки у мужчин отличает шотландцев от англичан, по не отличает первых от греков и албанцев, где ношение юбки тоже бытовало у мужчин. Таким образом, этнические знаки существуют не сами но себе, а лишь тогда, когда они отличают одну этническую общность от другой 10.
Изучение этнической специфики знаковых систем составляет задачу особой «пограничной» дисциплины — эт-посемиотики. Однако этносемиотический подход к культуре не исчерпывается лишь ее этноязыковыми функциями. Следует учитывать, что в каждом этносе есть свои различия между «внешним» выражением, формой проявления того или иного элемента культуры (знаком) и его «внутренним» содержанием" — значением. При этом нередко лишь «внешнее», открытое проявление данного
10
И
элемента культуры отличает один этнос от другого, в то время как по существу здесь различие невелико или вообще отсутствует.
Сигнификативная функция культуры теснейшим образом сопряжена еще с двумя ее функциями: познавательной и коммуникативной. Знаки и значения дают возможность человеку воссоздать «картину мира». «С помощью имен, значений и оценок континуум (непрерывность) объективного мира членится на значимые фрагменты, которые в свою очередь дифференцируются и интегрируются применительно к задачам практической и духовной деятельности. В разных культурах это членение получает различное понятийное и языковое выражение, ему соответствуют разные наборы имен и значений» '2.
Язык, как и другие знаковые средства культуры, наряду с сигнификативной выполняет и коммуникативную функцию. Эта функция культуры имеет особое значение для этносов, обеспечивая каждому из них характерные информационные связи — специфический способ передачи этнокультурной информации. Основная роль в воспроизводстве этноса принадлежит межпоколенной, диахрон-ной этнокультурной информации. «Наличием этих непрерывных диахронных инфосвязей между сменяющими друг друга последовательными поколениями этноса обусловлены его преемственность и стабильность во времени» 13. Но наряду с диахронной важное значение для функционирования этноса имеет синхронная информация, обеспечивающая его пространственную стабильность 14 и культурную интегрированность. В известном смысле этносы представляют собой пространственно ограниченные «сгустки» специфической культурной информации, а межэтнические контакты — обмен такой информацией.
Из всех компонентов культуры в широком смысле слова обычно наиболее отчетливо выраженными этническими функциями обладает язык. Не случайно в научной литературе при определении основных признаков как этнических образований вообще, так и отдельных их типог. язык уже давно обычно выдвигают на первое место i5, и для этого есть достаточные основания.
Отношение этнографии к языку, представляющему несомненно важнейший компонент этноса, сложилось весьма своеобразно. Несмотря на выполнение им особой роли как в интеграции, так и в дифференциации этнических общностей, язык сравнительно редко выступает в качестве предмета специальных этнографических иссле-
дований. В этом качестве еще можно встретить языки бесписьменных народов, что несомненно связано с особенностями этнографического подхода к такого рода народам. Изучение же языков народов, обладающих письменностью, почти целиком представляет домен лингвистики. И хотя внимание лингвистов сосредоточено прежде всего на собственно языковедческих вопросах, тем не менее им обычно принадлежит определяющая роль в исследовании языковых аспектов таких этнических проблем, как, например, этногенез — общность происхождения народов, особенности (диалектные) этнографических групп и т. д.
Иначе говоря, в изучении языка этнографии до сих пор принадлежит роль, прямо противоположная той, которую она традиционно выполняет применительно к материальной культуре. Это различие обусловлено целым рядом факторов. Среди них, на наш взгляд, одним из наиболее существенных является то обстоятельство, что, несмотря на особое значение этнических свойств языка, главная его функция — основное средство человеческого общения — требует специального изучения, притом изучения весьма разностороннего, поскольку язык в этой его функции — явление чрезвычайно многогранное. Следует учитывать также, что в силу относительной «жесткости» каждой языковой системы для определения этнической принадлежности носителей того или иного языка достаточно знаний отдельных его элементов и потому в подобных случаях, как правило, нет необходимости в анализе такого рода системы в целом.
Но каковы бы ни были причины исторически сложившегося своеобразия в изучении этнолингвистической проблематики, представляется очевидной необходимость более пристального внимания к ней и этнографов. Без их активного участия, в частности, вряд ли возможно сколько-нибудь полное раскрытие взаимосвязи языка с други ми компонентами этноса, в том числе влияние билингвизма на традиционно-бытовую культуру и этническое самосознание. Не могут этнографы оставить без внимания и такой немаловажный для характеристики этносов показатель, как этнонимы. На стыке этнографии с лингвистикой (а отчасти и с географией) лежит и чрезвычайно трудоемкая «зона» топонимических исследований. Одним словом, дальнейшее продвижение в разработке этнолингвистической проблематики требует объединения усилий лингвистов и этнографов.
12
13
Наряду с языком существенная роль в функционировании этносов принадлежит невербальным средствам и атрибутам коммуникации. Это прежде всего стереотипи-зированные действия, имеющие знаковый характер: жесты, мимика, поза. Выполняют коммуникативные функции и различные ритуалы: от принятых способов приветствия и взаимоотношения с представителями различных социальных групп до всех видов обрядов. Определенными коммуникативными функциями обладают и опредмечен-ные компоненты культуры, например символика одежды, пищи и т. п. Важная роль в коммуникациях принадлежит интериорной («внутренней») культуре. В первую очередь это относится к ее нормативной сфере, особенно к этикету, представляющему своеобразное ядро традиционно-бытовой культуры общения16. Существенное значение имеют и нормы проксемического характера, определяющие пространственные параметры общения. Все эти компоненты коммуникативной культуры, особенно традиционные, обладают той или иной этнической спецификой. Так, болгары в знак согласия покачивают головой из стороны в сторону, а в знак отрицания — кивают. Европейцы, как известно, здороваясь, протягивают для пожатия руку, что способно не только удивить, но и оттолкнуть китайца, японца или индийца (пожать руку чужого человека!). Эскимосы взамен поцелуя когда-то нежно терлись носами.
Различны у народов даже представления о расстоянии, на котором следует вести беседу. Как правило, такого рода стереотипизироваштая специфика коммуникативного поведения отличается особой устойчивостью: она прочно сохраняется в условиях урбанизированного общества. Поэтому этнографическое изучение пе только прошлого, но и настоящего не может оставлять вне поля своего зрения невербальные коммуникативные функции культуры. К сожалению, долгое время в нашей этнографической науке этой задаче уделялось крайне мало внимания. Лишь в последние года наметились некоторые позитивные сдвиги: положено начало специальному изучению невербальных коммуникативных функций культуры ".
Особо следует отметить давнее внимание этнографии к такому выполняющему определенные коммуникативные функции стереотипизированному компоненту поведения, как обряд 18. Этот компонент нередко весьма показателен в этническом отношении. Не случайно он оказывается в поле зрения этнографов. В последнее время у
и
пас наметилась активизация этнографического изучения обрядов, в которое включены и фольклористы. Кстати сказать, такое сотрудничество представляется вполне оправданным. Ведь фольклор, согласно образному выражению В. Я. Проппа, является «интегрирующей частью обрядов» )9. И это относится к самым различным видам обрядов: производственным (охотничьим, рыболовческим, скотоводческим, земледельческим), семейным (родильным, инициационным, свадебным, похоронным), общественно-праздничным (посиделки, игры, гулянья) и т. д.
Но среди стереотипов поведения этнической спецификой, разумеется, обладают не только обряды. Такую специфику можно обнаружить в самых разнообразных шаблонах поведения: от трудовых приемов до уже упоминавшегося этикета. Те из них, которые обладают значительной устойчивостью и своеобразием, уже давно привлекали внимание этнографов, а недавно появилась специальная работа, рассматривающая различные аспекты этнических стереотипов поведения20. Это исследовательское направление заслуживает дальнейшего развития, причем соответствующим изысканиям необходимо придать более систематический характер, включив в них не только «внутренние» шаблоны поведения, но и его «открытые» формы, т. е. само поведение, в том числе выражающее распространенные привычки. Изучение «открытого» поведения представляется тем более существенным, что, как известно, стереотипы поведения и оно само далеко не всегда совпадают.
Одна из особых задач этнографии — изучение характерных для каждого этноса традиционных форм социализации личности, так сказать, народной или, точнее, этнической педагогикиZ1, разработка которой у нас суще-
99
ствепно продвинулась в последнее время .
Стереотипы поведения теснейшим образом сопряжены с этическими, правовыми и религиозными формами общественного сознания, которые нередко несут значительную этническую нагрузку. Не случайно многие из этих компонентов духовной культуры уже давно рассматриваются как заслуживающие особого внимания этнографии.
В первую очередь это относится к морально-этическим нормам народов мира, изучение которых у нас даже иногда определяется как одна из основных задач этнографической науки23. Однако если не считать характеристики нравственных норм у различных народов в отдельных обобщающих трудах, то придется признать, что
15
в этнографическом изучении этой сферы обыденного сознания у нас сделано еще очень немного (особенно в отношении народов развитых стран).
Дальнейшее развертывание исследований, нацеленных на раскрытие многообразия и единства морали народов мира, несомненно требует кооперации усилий этнографов и специалистов в области этики. Это тем более необходимо, что этнография обычно оставляет вне поля своего прения этические нормы в современных развитых странах, изучению которой придается особое значение в этике.
Крайне неравномерно распределяется внимание этнографов при изучении правовых норм, составляющих вместе с нравственными нормами ядро соционормативной культуры. Оно остается значительным применительно к архаическим нормам права, к обычному праву. Но современные правовые нормы народов развитых стран пока практически находятся за пределами интересов этнографов. Во многом это связано с тем, что «этничность права в ходе истории, хотя и неравномерно, а как бы зигзагообразно, уменьшается... В докапиталистических классовых обществах большое значение как источник права имел прецедент (прецедентное, или казуальное, право), естественно, учитывающий местную конкретику, в том числе и культурно-бытовую специфику. Напротив, с развитием в позднефеодальную и буржуазную эпохи науки правоведения растет значение законодательного акта, формирующего правовую норму в абстрактной форме» 24. В результате в развитых странах в сфере права все меньше остается этнически специфических черт. К тому же в той мере, в какой эти черты сохраняются, они проявляются не столько в кодифицированном праве, сколько в правовом сознании широких масс. При этнографическом изучении этого компонента обыденного сознания народов развитых стран, однако, было бы, на наш взгляд, недостаточно ограничиваться фиксацией пережиточных форм архаического права. Ведь этническая специфика правового сознания таких народов, очевидно, не может быть сведена лишь к пережиткам, поскольку у них и в этой сфере обыденного сознания появляются новые своеобразные традиции. Стало быть, встает задача и их этнографического изучения.
Значительный интерес издавна проявляется этнографией к религии народов мира. В немалой мере это связано с тем, что религия — важнейший компонент созна-
ния народов. Что же касается религии у народов развитых стран, то внимание этнографии к ней находится в непосредственной зависимости от выполнения ею этнических функций. Этим в первую очередь и обусловлена «избирательность» ее этнографического изучения. Во-первых, для этнографа существенны не столько религиозные учения и догмы, сколько бытовой уровень религии, прежде всего религиозное поведение (лишь для ранних стадий общественного развития по причинам, уже не раз отмечавшимся, этнография охватывает всю религию в целом). Во-вторых, для этнографа большее значение имеет исследование не самих мировых религий, каждая из которых охватывает целый комплекс народов, а их локальных вариантов и пережиточных форм, характерных для отдельных этнических общностей. Такое предпочтение, кстати сказать, представляется оправданным еще и потому, что в общей религиоведческой литературе этим «малым» религиям обычно уделяется несравнимо меньшее внимание, чем мировым религиозным системам.
Одной из подсистем этноса, издавна привлекающих внимание этнографов, является народное художественное творчество. Общим основанием для определения взаимоотношений этнографии с искусствоведческими дисциплинами при изучении различных видов народного прикладного искусства, на наш взгляд, должно служить выполнение каждым из них и эстетических, и этнических функций. При этом необходимо сразу же подчеркнуть, что народное художественное творчество обладает этнической спецификой не только в первобытности, но и на протяжении всей своей истории. И, следовательно, было бы неверно считать, будто предмет этнологии (этнографии) искусства ограничен лишь художественным творчеством отставших в своем развитии народов.
На этнографическое изучение отдельных видов народно-прикладного творчества, судя по всему, оказал определенное влияние характер их связи с материальной культурой. Показательно, что в сфере такого изучения преимущественно находятся те виды художественной деятельности, в опредмеченных результатах которой функциональное значение имеют не только их эстетические, но и утилитарно-бытовые свойства. Сюда в первую очередь относятся изделия различных народных промыслов: гончарное мастерство, художественная обработка металла и дерева, ткачество, вышивка и т. п.
16
77
Вместе с тем несомненно также, что пристальное внимание этнографии к художественным промыслам связано с их устойчивым своеобразием, благодаря которому многие из них нередко несут значительную этническую нагрузку (весьма показателен в данном отношении орнамент).
Ввиду сказанного представляется вполне правомерным появление в нашей научной литературе мнения, что при историко-этнографическом изучении народных художественных промыслов собственно искусствоведческая проблематика должна затрагиваться лишь в той мере, в какой это необходимо для выявления их этнической специфики и регионализации". Но, конечно, при этом не следует забывать, что в силу утилитарно-бытовой функции рассматриваемой категории народного творчества этнограф при ее изучении нередко выполняет роль просто историка материальной культуры.
Несколько по-иному, на наш взгляд, решается вопрос о соотношении этнографии со специальными искусствоведческими дисциплинами при изучении таких «неове-ществленных» видов народного художественного творчества, как народные танцы, музыка и театр. При рассмотрении этого вопроса следует прежде всего учитывать, что для самого существования указанных видов творчества определяющее значение имеет выполнение ими эстетических функций. Отсюда и особая роль в их изучении соответствующих историко-искусствоведческих дисциплин (истории танца, музыки и театра). Вместе с тем народные танцы, музыка, театр несут определенные этнические функции, что требует к ним внимания со стороны этнографов. При этом роль последних не должна ограничиваться участием в сборе соответствующих полевых материалов (особенно у малых народов) и даже эпизодическим использованием этих материалов для решения своих специфических проблем. Представляется, в частности, весьма важным развертывание совместно с искусствоведами широких сравнительно-типологических и ареальных исследований в области народных танцев, музыки и театра.
Все это в значительной мере относится и к устному народному творчеству, в изучении которого этнография издавна тесно сопряжена с фольклористикой. Исторически такая их взаимосвязь сложилась в результате того, что у бесписьменных народов фольклор — важнейший компонент общественного сознания. Точнее говоря, само
вычленение фольклора из духовной культуры народов, находящихся на ранних стадиях общественного развития, весьма условно, ибо она в этом случае составляла органически сплавленный воедино синкретический комплекс. Поэтому этнограф, всесторонне изучая жизнь таких народов, естественно, не может оставить без внимания их, устное творчество, выступающее к тому же в качестве одного из основных источников информации.
Что касается современного устного народного творчества, то изучение этого компонента культуры, по справедливому замечанию К. В. Чистова, обычно приносится в жертву историческим реконструкциям фольклорной традиции в ее «нормальном», классическом, «чистом» виде. Элементы иноэтнические, где только возможно, элиминируются. В результате «до сих пор появилось очень мало работ, которые рассматривали бы современные фольклорные явления не изолированно, а на более или менее широком фоне литературных, полулитературных или гибридных форм, получивших распространение в быту народов СССР в ходе культурной революции. Между тем именно в этих формах с наибольшей отчетливостью отражаются современные этнические процессы в сфере бытовой культуры».
При рассмотрении задач этнографии в области изучения народного художественного творчества обычно остается в тени вопрос о ее отношении к профессиональному искусству, в том числе и художественной литературе. И это не случайно. В изучении профессионального уровня художественного творчества уже давно безраздельно господствуют специализированные искусствоведческие дисциплины и литературоведение.
Правда, общеизвестно, что как форма (язык, стиль, темперамент и т. д.), так и содержание (сюжеты, образы и т. п.) профессиональных художественных произведений нередко отражают этническую специфику того или иного народа. И, стало быть, такие произведения могут служить важным источником для суждения о характерных чертах соответствующих этносов. Нередко, особенно когда речь идет об отдаленном прошлом, художественные произведения оказываются незаменимыми источниками для воссоздания своеобразия традиционно-бытовой культуры народа. Однако нельзя не учитывать и того, что содержащаяся в такого рода произведениях информация не представляет собой первоисточника, она опосредована художественным творчеством автора. Поэтому ее использование
18
19
неизбежно предполагает всесторонний анализ художественного произведения в целом. И в этом отношении преимущества, конечно, на стороне специалиста-искусствоведа (литературоведа), который в состоянии учесть не только общие особенности соответствующего вида искусства и жанра рассматриваемого произведения, но и творческую индивидуальность его автора. Однако специальные, в первую очередь литературоведческие, исследования обычно главное внимание обращают на то, как (насколько полно и адекватно) отражает анализируемое произведение (или определенная группа произведений) национальное (этническое) своеобразие освещаемых в нем явлений (например, национальный характер героев), а также национальные (этнические) корни творчества автора. В то же время нередко остается далеко не выявленной значительная часть содержащейся в рассматриваемых произведениях информации о культурно-психологических особенностях соответствующего народа. И это обязывает этнографов самим более активно использовать такую информацию. Но при этом, конечно, не следует забывать о проблеме достоверности отражения художественным творчеством этнической специфики.
Необходимо учитывать также, что произведения профессионального художественного творчества не только отражают свойства этноса. Такие произведения подчас сами превращаются в неотъемлемые компоненты этноса. Это имеет место в тех случаях, когда профессиональное художественное творчество, в той или иной мере становясь достоянием основной массы членов этноса, входит в их повседневный быт, обыденное сознание. Будучи тесно связанным с развитием средств массовой информации, подобный бытовой уровень профессиональной культуры стал в последнее время, как известно, явлением весьма распространенным. Поэтому для характеристики той или иной современной этнической общности важно выяснить степень проникновения достижений профессиональной культуры в быт народа, т. е. функциональные взаимоотношения бытовых и профессиональных форм не только в сфере «производства», по и в сфере «потребления культуры». И это открывает перед этнографами (а не только перед социологами и социальными психологами) новую, несколько необычную, но несомненно заслуживающую внимания сферу исследований. Не могут не интересовать этнографа и характерные для изучаемого этноса особенности самого процесса разграничения профессионального
20
и народного художественного творчества, а также происходящее в наши дни размывание разделяющих их гра-
ниц 26.
Наряду с этическими, правовыми, религиозными и художественными формами общественного сознания инте-риорная культура в известном смысле включает и такие сложные психические образования, как ценностные ориентации, социальные установки, идеалы, убеждения, интересы и т. п. Изучение этих образований как таковых — задача прежде всего психологии. Но они, как правило, имеют специфическую для каждого этноса окраску и, стало быть, не должны оставаться вне поля зрения этнографии, точнее говоря, такой ее субдисциплины, как этнопсихология. И в этой связи представляется существенным, что в последнее время у нас предприняты попытки в ходе этносоциологических исследований выявить специфику ценностных ориентации в отдельных этносах. Пожалуй, еще важнее, что наряду с теоретическими изысканиями по проблемам этнического самосознания стали предприниматься шаги по конкретному изучению этнических (национальных) установок ", т. е. ориентации на то или иное поведение при межэтнических контактах. Впрочем, здесь мы уже вплотную подошли к проблемам этнической психологии, в значительной мере выходящим за рамки предметной зоны этнографического рассмотрения культуры сквозь призму ее этнических функций.
1 Соколов Э. В. Культура // Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та. 1968. С. 376-378; Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ере ван. 1969. С. 85-86.
2 Левин М. Г., Чебоксаров И. Н. Хозяйственно-культурные типы
и историко-этнографические области//СЭ. 1955. № 4. С. 4-10.
3 См.: Брук С. И,, Чебоксаров Н. Н. Метаэтнические общности// Расы и народы. 1976. № 6.
4 См.: Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 65.
5 Однако полностью отрицать их тоже вряд ли правомерно (см.: Кишкин Л. С. К вопросу о национальном своеобразии (Отклик на статью Д. С. Лихачева) //Русская литература. 1969. № 2).
6 Например, грузинские и армянские земледельцы отличаются друг от друга, в частности, тем, что первые предпочитают кис лый, а вторые - пресный хлеб. Но, как известно, ни тот, ни дру гой способ приготовления хлеба не является «абсолютной» спе цификой ни грузин, ни армян.
7 См.: Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. С. 216-217.
8 Соколов Э. В. Культура и личность. Л., 1972. С. 117.
9 См.: Арутюнов С. А. Этнографическая наука и изучение куль турной динамики // Исследования по общей этнографии. М., 1979. С. 26-27.
10 См.: Чеснов Я. В. Социально-экономические уклады и этниче ские традиции в агроэтнографии // СЭ. 1972. № 4. С. 71.
21
11 См.: Степанов 10. С. Семиотика. С. 6—20.
12 Соколов Э. В. Культура и личность. С. 122.
13 Чебоксаров Н. Я., Арутюнов С. А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества//Расы и народы. М., 1972. № 2. С. 19.
14 Там же. С. 22.
15 В частности, особое значение языка для нации отмечалось еще Жан-Жаком Руссо и Дж. С. Миллем (Руссо Жан-Жак. Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном под ражании//Избр. соч. М., 1961. Т. 1. С. 221; Миль Дж. Ст. Размы шления о представительном правлении. СПб., 1863. С. 302).
16 См.: Бгажноков Б. X. Коммуникативное поведение и культура// СЭ. 1978. № 5. С. 8.
)7 См.: Там же; Он же. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983; Чеснов Я. В. Шаг Майтрейи: некоторые аспекты изучения кинесики // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989.
18 См.: Токарев С. Н. Обычаи и обряды как объект этнографического исследования // СЭ. 1980. № 3.
18 Пропп В. Я. Специфика фольклора//Ленинградский государственный университет. Труды юбилейной научной сессии. Секция филол. наук. Л., 1971. С. 138-151.
20 Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.
21 См.: Комарова Г. А. О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и педагогической науке // Изучение преемствен ности этнокультурных явлений. М., 1980.
22 Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1983; Этнография детства. Традиционные формы воспитания де тей и подростков у народов Передней и Южной Азии. М., 1988.
23 См.: Этнография//БСЭ. Т. 49. С. 249.
24 Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии//Исследова ния по общей этнографии. М., 1979. С. 225.
25 См.: Ганцкая О. А. Народное искусство Польши. М., 1970. С. 10.
26 См.: Токарев С. А. О задачах этнографического изучения наро дов индустриальных стран//СЭ. 1967. № 5. С. 138-139.
27 См., например: Дробижева Л. М. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк межнациональных отно шений. М., 1981.
А. К. Байбурин
РИТУАЛ В СИСТЕМЕ ЗНАКОВЫХ СРЕДСТВ КУЛЬТУРЫ
![]()
Устойчивость культуры и ее жизнеспособность во многом обусловливаются тем, насколько развиты структуры, определяющие ее единство и целостность. Имеются в виду семиотические связи, с помощью которых достигается слитность разнородных частей культуры. Но этого мало. Целостность культуры предполагает также выработку единообразных правил поведения, общей памяти и общей картины мира. Именно на эти (интегрирующие и стабилизирующие) аспекты функционирования культуры направлено действие механизма традиции.
Стереотипизация опыта, лежащая в основе традиции ', призвана уравновесить противоположную тенденцию к разобщению отдельных компонентов и языков культуры, их специализации. Обе тенденции являются абсолютно необходимыми для нормального функционирования любой культуры2. Однако для целей настоящей работы особое значение имеет рассмотрение первой из них, ориентированной на самоорганизацию культуры, упрочение ее внутренних связей.
Каким же образом достигается внутренняя упорядоченность культуры? Очевидно, что ответ на этот вопрос во многом зависит от того, имеем ли мы в виду ранние или современные формы культуры, поскольку один и тот же эффект может быть достигнут за счет различных средств и способов социальной регуляции и контроля. Если говорить о т. наз. традиционных культурах, то необходимо, вероятно, иметь в виду следующее. Собственно культура начинается с того, что на поведение накладываются некоторые дополнительные ограничения, не мотивированные физическими или биологическими критериями. Только в этом случае имеет смысл говорить о социальном поведении. Естественно, возникает вопрос о происхождении этих ограничений. Данные целого комп-
© А. К. Байбурин, 1990
23
лекса паук позволяют (в очень приблизительном виде) предполагать следующую схему. В результате контактов между человеком и окружающей его средой (особенно усилившихся после т. наз. неолитической революции) и переработки первичной информации с помощью знаковых средств происходит своеобразное «удвоение» мира: появляется образ мира, который находит свое воплощение в самых различных фактах поведения и результатах деятельности 3. Другими словами, наряду с естественной средой начинает формироваться искусственная, социальная среда (ср. ноосферу у Тейяр де Шардена и В. И. Вернадского). Суть этого удвоения (во всяком случае на начальном этапе) не в уподоблении, а в расподоблении биологического и социального, природы и культуры. Сценарий жизни человека перестал совпадать с биологической схемой жизни. Образ (или модель) мира стал одновременно и программой социального поведения, ограничивающей и регулирующей «естественные» действия и поступки. Следовательно, происхождение этих ограничений связано с возникновением искусственной (социальной) программы поведения, делающей поступки людей единообразными и контролируемыми.
В основе такой программы поведения лежали не правила (как в современном обществе), а образцы, модели, следование которым являлось обязательным условием социальной жизни коллектива. Естественно, программа имела нерасчлененный характер. Образцы, выступавшие в качестве нормы, содержали зародыши тех норм, которые в дальнейшем будут классифицироваться как юридические, этические, религиозные и т. п. Другим важным свойством архаичной программы поведения является ее автоматизированность, т. е. она совершалась по большей части бессознательно, и в этом смысле ее действие сопоставимо со столь же автоматическим владением языком. В этом убеждает уже сам факт отсутствия мотивировок в следовании тем или иным образцам. Объясняется это тем, что в архаическом (как, впрочем, и в позднем тра* диционном) обществе все, что окружает человека, вся его жизнь представляется единственно возможной, а не одним из возможных вариантов. Поэтому не возникает вопроса: «Почему так, а не иначе?» Все заведено раз и навсегда единственно возможным образом. Стоит ли удивляться, когда и на позднейших этапах традиции на указанный вопрос дается ответ типа: «Так делали всегда» или: «Так делали наши предки». И дело здесь не в том,
24
что «истинный» ответ утерян. По всей видимости, его никогда и не было по той простой причине, что данный тип сознания и не предполагал такого вопроса ввиду его полной бессмысленности с внутренней точки зрения.
Автоматизированность программы поведения, ее бессознательная реализация являются определяющим фактором ее устойчивости во времени. В ней нельзя выделить главное и второстепенное, а, следовательно, такую программу невозможно свернуть, разложить на более значимые и менее значимые фрагменты. В ней все образцы и стандарты поведения представляются одинаково главными и обязательными.
Следует, однако, учитывать, что полностью автоматизированная программа поведения нежизнеспособна. Необходимая степень деавтоматизации достигается за счет ее негативной части. Иными словами, мотивируется (и тем самым осознается) не норма, а отступление от нормы. На вопрос: «Почему так нельзя делать?» информанты обычно дают развернутый ответ, суть которого сводится к тому, что нарушение предписанных традицией образцов неминуемо влечет за собой несчастье для человека и/или коллектива (болезни, эпизоотии, стихийные бедствия и т. п.). С определенной долей условности можно говорить, что обществу с подобной программой поведения свойственно негативное осмысление мира. То, что уже дано, есть, существует, не нуждается в объяснениях и комментариях. Зато усиленно комментируются возможные отступления и все то, что не имеет прецедентов, не покрывается существующей системой образцов. Не случайно негативная часть программы оказывается универсальным средством обучения культуре — в механизмах воспитания, социализации и инкультурации прежде всего актуализируются и эксплицируются системы запретов и предписаний.
Традиционная программа поведения претендует на то, чтобы дать образцы на все случаи жизни. Реально же с их помощью регламентируются лишь те аспекты деятельности, которые считаются значимыми для существования коллектива. Естественно, каждый коллектив или общество по-своему определяет значимость тех или иных форм индивидуального и коллективного поведения, отсюда, например, несовпадения в репертуарах обрядов и обычаев различных народов. Существеннее, однако, их принципиальное сходство, особенно характерное для системы ритуалов. Объясняется оно, по-видимому, тем, что ритуалы
25
соотносились с наиболее важными фрагментами социального поведения. В качестве таковых выделялись кризисные, пороговые ситуации, точнее, те ситуации, которые считались кризисными, от успешного разрешения которых зависело благополучие коллектива и его членов. Менее зарегулированы (и, кстати, типологически более неоднородны) те фрагменты поведения, которые мы привыкли обозначать понятием «обычай». Система обычаев относится к повседневной жизни. В них регламентируются действия и поступки, относящиеся к обыденной норме поведения. Ритуал — особая программа поведения, с помощью которой коллектив преодолевает критические точки бытия. Поясним этот тезис. Как уже говорилось, каждое общество, заботясь о своей целостности и единстве, стремится выработать единообразные формы поведения, несмотря на существование противоборствующей «центробежной» тенденции. Общие формы поведения особенно необходимы в тех случаях, когда образцы, предназначенные для обыденной жизни, не срабатывают и появляется угроза существованию коллектива в его устоявшемся виде. В таких случаях коллектив прибегает к особой программе поведения — ритуалу.
В чем его особенности по сравнению с другими формами поведения? Прежде всего в степени жесткости воспроизведения. Принцип единообразия поведения, неизменности и обязательности для всех членов коллектива здесь имеет самодовлеющий характер. Вместе с тем жесткость программы обеспечивает успешное прохождение наиболее опасных точек сценария жизни — отсюда, кстати, отмечаемый многими исследователями психотерапевтический эффект ритуала. Во-первых, коллектив преодолевает опасность максимально сплоченным и, во-вторых, по единым для всех рецептам поведения. Если под ритуа-лизацией поведения понимать такие ограничения на поступки, которые не мотивированы биологически или качествами и свойствами людей, то пик ритуализации придется на обряд, тогда как минимально ритуализованными окажутся обычаи, направленные на поддержание биологического статуса человека. Вообще нужно сказать, что основное отличие в функционировании ритуала и обычая видится не в том, что ритуал связан с символической, в то время как обычай — с практической деятельностью (см. подробнее ниже), а в том, что они моделируют разные фрагменты мира. Если обычай воплощает норму повседневного поведения, то к ритуалу обращаются (и ис-
пользуют его как программу поведения) только в экстремальных ситуациях (смерть, рождение, заключение брака, переход в следующий возрастной и социальный класс, смена власти, временных циклов, различного рода стихийные бедствия и др.). Можно ли считать кризисной (экстремальной) ситуацию заключения брака или возрастную инициацию? Безусловно. В культуре, для которой характерны единство и слитность человека, коллектива и космоса, любое изменение в социальной организации неминуемо влечет за собой глобальную перестройку во всех остальных сферах жизни.
Когда мы говорим о жесткости, неизменности, единообразии ритуала, то, естественно, отдаем себе отчет в его вариативности как во времени, так и в пространстве. Действительно, исследователь, занимающийся каким-то одним ритуалом, всегда может указать на его варианты даже на небольшом отрезке времени и в ограниченном регионе. Следует, однако, иметь в виду, что отмечаемые различия, всевозможные инновации и модификации, как правило, затрагивают лишь поверхностные уровни ритуала (относящиеся к плану выражения), в то время как глубинные, содержательные, археотипические схемы отличаются поразительной устойчивостью и единообразием.
Со времен Э. Дюркгейма 4 ритуал неизменно характеризуется связью со сферой сакрального. И это представляется справедливым. Более того, в архаической культуре ритуал и категория сакрального находятся как бы в отношениях взаимообозначения, т. е. все то, что сакрально, актуализируется в ритуале, и наоборот: все то, что относится к ритуалу, является сакральным. Сложности начинаются в том случае, если мы попытаемся провести границу между сакральным и профаническим. Этот вопрос, по сути дела, снова, хотя и в несколько иной плоскости, возвращает нас к проблеме разграничения ритуала и других форм стереотипизированного поведения.
В концепции Дюркгейма сакральное и профаническое не имеют между собой ничего общего. Мир сакрального связан с коллективной жизнью. Причем коллективное начало характеризуется не только особым авторитетом дл" индивида, но и является средством контроля и принужд>» ния. Профанное (мирское) соотносится с повседневной жизнью, бытом, трудом и индивидуальным началом.
Жизнь человека протекает как бы в двух измерениях. Будучи индивидом, человек осуществляет свою индивидуальную программу жизни. Будучи членом коллектива, он
26
27
с неизбежностью следует коллективному сценарию, и, соответственно, наряду с индивидуальными, ему присущи и коллективные представления, которые реализуются в религии, мифе, ритуале.
Именно в таком делении всего сущего (а не в вере в сверхъестественное) Дюркгейм видел основной признак религии. Религия (культ, ритуал) — это сфера сакрального. Коллективный характер сакрального определяет и конкретное наполнение данной области: священными становятся лишь те явления, которые санкционированы коллективом.
Однозначная связь сакрального с коллективностью, а профанного — с индивидуальностью дала основание Дюркгейму для противопоставления религии (в том числе и коллективно исполняемых ритуалов) и магии. Магия имеет, как правило, индивидуальный характер («маг действует в одиночку») и поэтому не входит в число сакральных (религиозных) действий, объединяющих людей в коллектив, в единое целое. Если не абсолютизировать границу между сакральным и профаническим (и однозначность связей этих категорий с коллективным и рнди-видуальным началом), то сама дихотомия священного и мирского оказалась очень плодотворной. Дальнейшее обсуждение роли данного противопоставления на архаических этапах развития культуры велось по двум линиям: отрицания и принятия с необходимыми коррективами и дополнениями.
Основной довод противников такого разделения заключается в том, что дихотомия священного и профанного отсутствует в системе категорий исследуемой культуры или не подтверждается эмпирическим материалом. К такому выводу пришел, например, известный исследователь мифов и ритуалов австралийских аборигенов У. Стан-нер5. Трудно, однако, себе представить полное отсутствие, например, эзотеричных ритуалов, мифов, племенных ценностей, «закрытых» для непосвященных и «чужих» у австралийских аборигенов. Другое дело, что в категориальной системе данное противопоставление может быть слабо или вовсе не эксплицировано. Не только противники, но и сторонники концепции Дюркгейма исходят, как правило, из отсутствия резкой и непроходимой границы между сакральным и профаническим. Если кратко сформулировать более гибкий подход к проблеме сакрального и профанического, то его можно представить следующим образом. Разделение на сакральное и профаническое
не абсолютно, а относительно. Каждая культура вырабатывает свой облик сакрального. Однако существуют и универсалии. Человек рождается в мире профанного и лишь затем, при соблюдении ряда условий, ему приоткрывают двери в мир священных для данного коллектива ценностей. Сама жизнь человека, включающая серию посвящений, есть движение к сакральному, а сами эти посвящения — последовательные этапы приобщения к высшим тайнам, к ритуалу.
Сакральное (коллективное) связано с прорывом вре-. мени, осуществляемом в празднике и ритуале, с коллективной памятью и усилиями по поддержанию социума. Не случайно именно во время праздника коллектив осознает себя максимально целостным и слитным. Не случайно также, что в празднике и ритуале неизменно актуализируется связь коллектива с прошлым, с предками, давшими первые и, следовательно, сакральные образцы поведения. Поэтому еще очень долго (до перестройки парадигмы на исторический лад) профанная жизнь служит лишь необходимым фоном для развертывания истинной (сакральной) драмы жизни. Только в сфере ритуала существуют образцы, достойные подражания, и только в ритуале человек может полностью реализовать свои возможности.
В работах последователей Э. Дюркгейма, и прежде всего М. Элиаде 6, концепция сакрального связывается не столько с коллективным началом и выделенностью, эзо-теричностью, сколько с идеей космоса. Человек космологического (доисторического) периода не выделял себя из глобальной космологической схемы, все части которой не существуют независимо друг от друга. Такая цельность — следствие их общего происхождения из единой космической материи. Поэтому все существующее на земле: человек, коллектив, элементы ландшафта, жилище, одежда и т. п.— имеют общую природу. В этой картине мира все причастно космосу, выводимо из него и возводимо к нему же. По этой причине и элементы быта, профанические по своей природе, могут быть объяснены космическим порядком, выведены из него, но как внешние, не принадлежащие ему элементы той сферы, к которой высшие законы жизни не имеют никакого отношения.
Очень существенной оказалась идея различения степени сакральности разных объектов. С этой точки зрения мир неоднороден. Одним объектам приписывается макси-
28
29
мальная сакральность, в то время как другие обладают этим свойством в меньшей мере. Высшей сакральностью отмечены те точки пространства и времени, где и когда произошло создание мира (т. наз. «центр мира» и переход от старого к новому году). Соответственно для периферийных объектов, по мере удаления от «центра» степень сакральности уменьшается.
Идея центра и периферии является организующей для архаического мировосприятия. Ритуал всегда происходит в сакральном центре — наиболее напряженной точке космического универсума, поскольку только в ней ритуал максимально действен. С другой стороны, только с помощью ритуала можно достичь идеального состояния мира — слияния человека, коллектива и космоса. Поэтому центр мира — это прежде всего ритуальный, а, следовательно, и операционный центр по поддержанию и утверждению порядка в этом мире.
Принцип единства мира, неотторжимость его отдельных составляющих является для культуры рассматриваемого типа ведущим. Граница между сакральным и про-фаническим, строго говоря, несомненная, сталкиваясь с идеей цельности жизни во всех ее проявлениях, обнаруживает прорывы. Другими словами, быт, сфера профаническо-го оказываются насыщенными символикой, истинное значение которой лежит в области сакрального. Вот почему практически всеми исследователями архаических культур отмечается эффект перетекания сакрального и профани-ческого. В самой сердцевине сакрального — ритуале можно выделить более и менее сакрализованные фрагменты. Точно также в самых, казалось бы, профанических сферах деятельности, связанных с удовлетворением «низменных» практических нужд, обнаруживаются символы и операции сакрального характера. Вероятно, как и в случае ритуализации поведения, имеет смысл говорить о различной степени сакральности — профаничности применительно к ритуалу и обычаю. Во всяком случае, по отношению к обычаям (стереотипам общения, игре, технологическим приемам и т. п.) такой подход особенно необходим. По словам В. Н. Топорова, в культуре данного типа «существенно, реально лишь то, что сакрализовано (сакрально отмечено), а сакрализовано лишь то, что составляет часть космоса, выводимо из него, причастно к нему; но вместе с тем все может быть возведено к первоначальной сфере сакрального. Это все — сакральность и, так сказать, безбытность — составляет одну из наи-
более характерных черт мифопоэтической модели мира» 7. Выделение чисто нрофанической (никак не возводимой к сакральному универсуму) деятельности, поляризация этих двух сфер характерны для позднейших этапов культурно-исторической традиции.
Если попытаться кратко резюмировать проблему соотношения сакрального и профанического, то можно сказать следующее. Во-первых, само толкование категории сакрального претерпело значительные изменения от «эзо-теричного, коллективного, притягательного для человека» у Дюркгейма до особого типа времени, причастности космосу и противопоставленности хаосу у Элиаде и других авторов8. Во-вторых, в непосредственной связи с этим толкованием сместился акцент разысканий (во всяком случае, для архаического типа культуры). Вопрос не в том, что здесь сакрально, а в том, что профанично, учитывая всеобъемлющую космологизацию, распространяющуюся и на сферу быта. И все же думается, что во все времена существовала качественная неоднородность различных видов и способов деятельности, по отношению к которым может быть использована шкала сакральности/ профаничности, причем в любом случае ритуал (но не мирской обряд) займет самую верхнюю строчку.
Одним из основных признаков ритуала является его прагматичность. Без особого преувеличения можно сказать, что вопросы прагматики являются ключевыми для уяснения специфики не только ритуала, но и вообще ранних состояний культуры. Поэтому имеет смысл остановиться на них подробнее.
Современный исследователь архаического мировоззрения со времен Тэйлора, Фрэзера и Дюркгейма исходит из четкого противопоставления практического и символического в различных вариантах: рациональное — иррациональное; функциональное — эстетическое; утилитарное — экстраутилитарное и т. п. По сути дела все наши попытки расклассифицировать явления на рациональные и иррациональные подчинены прямолинейной схеме, в соответствии с которой существуют два противоположных по своим целям и результатам вида деятельности. Один из них дает практический эффект, т. е. направлен на удовлетворение материальных потребностей человека. Другой вид деятельности ориентирован на экстраутилитарные (иррациональные) ценности символического характера. •'•та деятельность обычно рассматривается не только как нторичная. добавочпая к первой, но и как необязатель-
30
31
ная, факультативная. Подобный взгляд настолько утвердился, что не ставятся под сомнение ни правомерность распространения данного противопоставления на архаические формы культуры, ни, наконец, «истинность» единственной прагматики. Но всегда ли имело смысл такое разделение? Так ли необязательно то, что мы называем символическим, экстраутилитарным и даже иррациональным?
Этот мнимый парадокс известен многим историкам культуры. Суть его в том, что наиболее примитивные в хозяйственном отношении племена, нередко находившиеся на грани вымирания, имели сложную социальную организацию, чрезвычайно разработанную систему обрядов, верований и мифов. Основные усилия этих племен, как это ни странно с нашей точки зрения, были направлены не на повышение материальной устойчивости, а на экстраутилитарную сферу, на неукоснительное выполнение всех обрядов и предписаний, в чем и виделся залог благополучия коллектива и смысл его существования. Объяснять это, как принято у религиеведов, искаженным восприятием мира, роковым заблуждением, имело бы смысл только в том случае, если бы описанная картина относилась к единичному обществу. Но когда такое отношение к материальному производству было присуще по сути дела всякому примитивному обществу, то вряд ли речь может идти о случайном заблуждении.
В этой связи можно сослаться и на другую давно подмеченную особенность человеческой культуры. На протяжении всей истории человечество выделяло для непрактической, экстраутилитарной деятельности своих лучших представителей9. Но если это так, «трудно предположить, чтобы в ней не было органической необходимости, чтобы человечество систематически отказывало себе в жизненно нужном ради факультативного. Можно предположить, что если для биологического существования отдельного человека достаточно удовлетворения определенных естественных потребностей, то жизнь коллектива, каков бы он ни был, невозможна без некоторой культуры. Для любого коллектива культура не факультативное добавление к минимуму жизненных условий, а непременное положение, без которого бытие его невозможно» i0. По сути дела речь идет о существовании второй, социальной или знаковой прагматики. Если в схеме «практическое — символическое» мы исходим из наличия одного вида потребностей — утилитарных, то в соответст-
вин с приведенными выше соображениями потребности, в равной степени необходимые для социальной жизни человека, бывают двоякого рода: утилитарные и знаковые. Последние «являются объективной основой приобретения организмом сверхгеиетической информации. В результате возникают два типа отношения организма к вводимым в него инородным структурам: одни тотчас же или сравнительно быстро переформируются в структуру самого организма, другие откладываются, сохраняя собственную структуру или некоторую ее свернутую программу. Имеем ли мы дело с материальным накоплением каких-либо предметов или с памятью в ее кратковременных или долговременных, личных или коллективных формах — перед нами по сути дела один и тот же процесс, который может быть определен как процесс возрастания информации» и.
Итак, имеет смысл говорить о двух видах прагматики, одну из которых мы в дальнейшем будем называть утилитарной, а другую — знаковой. Важно еще раз подчеркнуть, что обе прагматики, если речь идет о социальном аспекте деятельности человека, являются жизненно необходимыми, и в этом смысле знаковая прагматика столь же «практична», как и утилитарная.
Признание за знаковой прагматикой жизненно необходимого смысла — лишь первый шаг на пути пересмотра устоявшихся схем интерпретации архаической культуры. Собственно, это положение имеет универсальный характер, поскольку применимо для всякого социального объединения, как архаического, так и современного. Различия, и очень существенные, лежат в сфере преимущественных установок па тот или иной тип прагматики, в способах организации утилитарной и знаковой деятельности, в характере их сочетания.
Тот переворот в области мировоззрения (переход от космологии к истории), особенности которого сейчас нами иают проясняться 12, самым непосредственным образом был, видимо, связан с переориентацией человека и коллектива с одного вида прагматики на другой. «Выпрямление» времени, осознание его необратимости сопровождалось глобальной перестройкой космологических принципов. На авансцену жизни, достойной описания, выхолит человек с его нуждами, заботами и повседневными делами. Если в космологическую эпоху цель и смысл Илплтш человек видел в ритуале, а обыденное существо-тише лишь заполняло промежутки: между ритуалами,
32
2 о'аказ М 424
S3
34
архаической культуре каждому предмету человеческого окружения (как искусственному, так и естественному, «природному») соответствовало определенное - значение (или набор значений) в общей парадигме смыслов, которая выступает в качестве программы поведения (модель игры). В роли семиотических объектов используются не только язык, миф, ритуал, но и утварь, экономические и социальные институты (ср. универсальный обмен), системы родства, жилище, пища, одежда и т. п. Причем все эти системы знаков обладают единой и общей структурой гшаченпй. По сути дела перед нами цельная семиотическая модель, каждый элемент которой соотнесен со всеми другими элементами, и все они «участвуют в единой всеобъемлющей метафоре» ''. Здесь отсутствует та специализация знаковых систем, то разделение на мир знаков и мир вещей, которые так характерны для современного общества. Здесь вещи всегда суть знаки, но и знаки — всегда вещи. Для такого общества главное — сохранение единства и слитности культуры. «Цельность и равновесие — здесь замена прогресса» 16.
Если взглянуть на наш мир глазами человека архаической культуры, то он предстанет скорее всего как полный семиотический хаос. Это вызвано многими причинами, на которых здесь не место останавливаться. Главная из них — разрушение единой моделирующей системы, явившееся следствием специализации знаковых систем, появления новых семиотических средств, приспособленных исключительно для хранения, обработки и передачи информации.
Вещи стали терять «знаковость», а знаки — «вещность». Разумеется, реальная картина перестройки культуры гораздо сложнее описанной схемы. Можно указать на те периоды истории разных народов, когда знаковость резко возрастала (обычно это связано с различного рода историческими катаклизмами). С другой стороны, и в современном обществе некоторые вещи могут использоваться в знаковой функции, а знаки — в утилитарных целях. И все же налицо относительно резкое разделение всех проявлений культуры па «мир фактов и мир знаков» ". Кстати, одним из следствий такой классификации явилось известное всем этнографам и археологам членение культуры на «материальную» и «духовную».
Если придерживаться высказанных выше соображений, то подобное разграничение, может быть, и имеет смысл по отношению к фактам современной культуры
2*
88
(да и то с большой натяжкой), но абсолютно неприменимо не только к архаическому, по и к тому, что называется «традиционным обществом». Между тем, мы используем эти понятия чаще всего именно к таким обществам. Причем деление на «материальное» и «духовное» произ-иодится с позиций нашей культуры, опираясь на свой опыт оперирования вещами. Нет нужды говорить о том, что он чаще всего не имеет ничего общего с опытом человека той культуры, по отношению к которой делается подобное разграничение.
Это относится пе только к диахронии, по и к синхронии, к попыткам классификации элементов иных этнических культур. То, что с пашей точки зрения является элементом материальной культуры, т. е. обладает низкой семиотичностыо, вовсе необязательно оказывается таковым с позиции другого этноса. Это положение тривиально, т. к. представители разных (и во времени и в пространстве) культур по-разному семиотизируют мир. Но повторяю, если по отношению к современным обществам деление на «материальное» и «духовное», «рациональное» и «иррациональное», «практическое» и «символическое» в какой-то мере и применимо, то использование этого приема по отношению к архаической культуре неизбежно приводит к заведомо искаженной картине.
Дело в том, что не только в архаическом, но и в традиционном обществе (еще в прошлом веке) символические и утилитарные аспекты деятельности не расчленялись. Это обстоятельство особенно заметно в тех случаях, когда мы обращаемся к сфере производства, хозяйства, которая, с пашей точки зрения, имеет выраженную утилитарную направленность. Сейчас уже хорошо известно, что древнейшие технологические схемы были теснейшим образом увязаны с космологическими представлениями, ремесла носили ритуальный характер, а самим ремесленникам (кузнецам, строителям, гончарам и др.) приписывались в первую очередь пе производственные, а ритуальные функции. Считалось, что они обладают особым знанием, что приводило к их выделению в эзотерические группы (ср. особые касты ремесленников на Востоке). Их деятельность по созданию новых вещей рассматривалась в контексте ритуально-мифологических представлений о творении мира, точнее, о последующих этапах творения, связанных с дальнейшим становлением реальности 18. В результате создавалась не просто вещь, но искусственный культурный символ, наделенный чертами
общей космической схемы. То есть любая вещь становилась еще и микромоделыо Вселенной или ее значимых фрагментов, своего рода микрокосмосом.
Новейшие данные позволяют говорить не только о позднем выделении производственной сферы из общей, синкретической, нерасчлененной деятельности ритуального характера, но и о том, что размежевание различных ремесел, связанных с активным воздействием на естественное окружение человека, также произошло далеко не сразу. Какое-то (и долгое) время, например, обработка металлом пе вычленялась из более общего комплекса занятий, куда входило производство керамики и сте-кла .
Приведенные соображения свидетельствуют о двух особенностях прагматизма человека архаической культуры. Во-первых, преимущественная ориентация на ценности знакового характера, а не утилитарные. Это и естественно, поскольку «последние определяются первыми, но не наоборот» 20. Во-вторых, и что нам важнее для последующего изложения, то, что мы привыкли делить па «практическое» и «символическое», предстает в нерасчленен-ном виде. Любой ритуальный символ «практичен» в том смысле, что необходим для поддержания материальных основ жизни коллектива и наоборот: экономическая, производственная деятельность (какой бы утилитарной она нам пи казалась) никогда не сводилась к «чистой» экономике, поскольку вписывалась в глобальный ритуально-мифологический контекст.
Итак, ритуал прагматичен в обоих смыслах: не только в знаковом, но и в практическом отношении. Кроме того, он еще и чрезвычайно эффективен в рамках релевантной ему культуры. Эффективен как средство контроля, как «главная операция по сохранению «своего» космоса, по управлению им, по проверке действенности его связей с космологическими принципами (степень соответствия)» ". И в этом отношении проблема истинности/ложности ритуала не имеет существенного значения. По справедливому высказыванию Б. М. Бернштейна, «традиционная информация, ориентированная на самоподдержание системы, не обязательно должна быть истинной. Будучи составлена даже из ложных или искаженных представлений о мире и о собственной культуре, она может вполне удовлетворительно выполнять свою интровертную функцию. В этом, видимо, причина живучести стереотипов традиционного сознания и поведения, противоречащих
36
37
; и яютсч в его функционировании. Исключительно важная роль ритуала в жизни коллектива проявилась, в частности, и в том, что в ритуале используются все знаковые средства, известные данному коллективу. В этом отношении ритуал представляет собой «парад всех знаковых систем (естественный язык, язык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, музыка, цвет, запах и т. п.; ср. типологически позднее храмовое действо — Флоренский), никогда более не образующих такого всеобъемлющего единства...» ". Такой синтез не только дает многократный «запас прочности» и тем самым обеспечивает максимальную помехоустойчивость ритуала, но и создает необходимый психологический эффект сопри-частня высшим ценностям бытия.
Эмоциональная сторона ритуала вообще представляется чрезвычайно важной. Не случайно этологи и психологи связывают возникновение ритуализации с реакцией па ситуацию неопределенности, порождающую страх, тревогу, неуверенность. В ритуалах снимается эмоциональное напряжение, «канализируется агрессия» и т. п.26 Психологическому воздействию ритуала отводится важное место и в этнографических теориях ". Причем мнения этнографов расходятся. Если большинство из них соглашается с тезисом: «Ритуал дает выход накопившейся психической энергии», то некоторые, наоборот, считают, что «психологический эффект ритуала состоит в том, чтобы вызвать ощущение опасности» 28. Попытка примирения этих точек зрения была предпринята Хомэисом, который считал, что они обе по-своему справедливы 2Э. Первичное напряжение (например, в ситуации рождения ребенка, смерти и т. п.) снимается в соответствующем ритуале, но затем возникает новое напряжение из-за сомнений в эф-фзктивности и правильности исполнения ритуала. Для избавления от новой опасности человек прибегает к ловим ритуалам (например, очищения). Теория «вторичного ритуала» (т. паз. «невротический парадокс») в последнее время стала весьма популярной среди психологов н психоаналитиков 30.
Как бы там пи было, наверное, не стоит и преувеличивать эмоциональную сторону ритуала, что особенно проявляется в тех случаях, когда ритуал пытаются полностью вывести из психофизиологических факторов. Скорее всего прав был А. Хокарт, говоря, что эмоциональная окралтенпость ритуала еще не означает, что он возник из эмоций"1. Безусловно одно: общий эмоциональный иа-
38
39
строй сплачивает участников, позволяет им ощущать себя единым целым перед лицом очередного испытания.
Коллективный, массовый характер ритуала — еще одна черта, резко отличающая его от других форм стереотипного поведения32. Конечно, существовали и специализированные, эзотеричные ритуалы, но в своей основе ритуал имеет всеобщий характер (как в смысле массовости, так и в том отношении, что каждый член коллектива в течение своей жизни проигрывает все роли, предписанные ритуальным сценарием, например, посвящаемого, посвященного, посвящающего и т. п.). В этом плане ритуал отличается не только от обычаев повседневной жизни, но и от т. наз. «индивидуальных ритуалов», независимо от того, понимаются ли под ними индивидуальные привычки или магические действия. Вообще нужно сказать, что этот термин, столь распространенный среди психоаналитиков, с точки зрепия культуролога столь же абсурден, как и «индивидуальный язык» для лингвиста. Ритуал — мощнейший коммуникативный комплекс. Обмен информацией здесь достигает предела. Разумеется, можно говорить, что в «индивидуальном ритуале» тоже происходит автокоммупикация33, по, учитывая коллективный характер собственно ритуала, использование этого термина для описания индивидуальных действий не способствует росту взаимопонимания между представителями разных дисциплин, занимающихся проблемой стереотипных форм поведения.
Мы назвали ряд признаков и свойств ритуала, по которым он отличается от всех остальных разновидностей поведения и которые тем самым указывают на его особое место в общей системе культуры. Но, пожалуй, в этом отношении наиболее значимой и показательной является его ярко выраженная семиотичность. Выше уже говорилось о синтезе всех известных коллективу знаковых систем в ритуале. Но дело даже не в этом. Резкий скачок семиотичпости в ритуале совершенно изменяет привычный облик мира 34. Люди, их действия и поступки, вещи, элементы пространства, природные объекты и т. д. приобретают второй смысл, который в глазах участников ритуала является единственно истинным и высшим смыслом. Все привычные предметы и явления становятся знаками друг друга, все они вовлечены в своего рода игру, цель которой — в проверке связей и отношений подобия между различными элементами мира, т. е. в конечном счете — в проверке его цельности. Этот семантический
сдвиг имеет ярко выраженный качественный характер, что особенно проявляется в процедурах выбора наиболее сакральных точек пространства и времени для совершения ритуала, в наборе ритуальных символов и действий. Собственно именно семиотические особенности ритуала, его подчеркнутая символичность и метафоричность (заслонившая все другие и прежде всего «практические» аспекты) явились интуитивным основанием для выделения ритуала из остальных видов деятельности и придания ему особого статуса в общей структуре культуры. Но эти же качества определили и трудности изучения ритуала, непрекращающиеся поиски ключа для расшифровки смысла (или смыслов), надежных методов его интерпретации.
Если попытаться выделить то общее, что неизменно присутствует при описании тех или иных свойств, качеств, признаков ритуала, его можно было бы передать такими словами, как слитность, цельность, единообразие. Их с равным успехом можно применить к участникам, структуре поведения, к нерасчлененности символического и утилитарного, земного и космического, синтезу знаковых систем, психологическому настрою. Причем в этих словах описываются не только особенности ритуала, его внутренняя организация, но и его роль в системе культуры.
1 Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции //
СЭ. 1981. № 2. С. 80.
2 Лотман Ю. М, Место киноискусства в механизме культуры // Труды по знаковым системам. Вып. 8. Тарту, 1977. С. 138-145; см. также: Бернштейн Б. М. Традиция и социокультурные струк туры//СЭ. 1981. № 2. С. 107.
3 Топоров В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественнонаучных знаний в древ ности. М., 1982. С. 8-9.
4 Durkheim E. Lcs formes elementaire de la vie religieuse. Paris, 1912.
5 Slanner W. E. H. On aboriginal Religion // Oceania Monographs. V. 11. Sidney, 1966.
6 Eliade M. Le sacre et le profane. Paris, 1965 и др. работы.
7 Топоров В. Н. Первобытные представления... С. 14.
8 О различных пониманиях дихотомии сакральное — профанное см.: Stirrat R. L. Sacred models//Man. 1984. V. 19, N 2. P. 199-
q 215.
f Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Вып. 1. Тарту,
1970. С. 3-4. 10 Там же. С. 4. и Там же. С. 5.
12 Прежде всего благодаря работам К. Леви-Стросса, М. Элиаде, В. Н. Топорова и др.
40
41
13 Черных Ё. Н. Проявление рационального и иррационального в археологической культуре // СА. 1982. № 4. С. 10.
14 Подробнее ел.: Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология. Сб. МАЭ. Т. XXXVII. Л., 1981. С, 215-226.
15 Сегал Д. М. Мир вещей и семиотика//Декоративное искусство СССР, 1968. № 4. С. 39.
16 Там же.
17 Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. С. 14.
18 Иванов В. В., Топоров В. Н. Проблема функций кузнеца в свете семиотической типологии культур // Материалы Всесоюзного симпозиума но вторичным моделирующим системам. 1(5). Тар ту, 1974. С. 88.
19 Иванов В. В. История славянских и балканских названий ме таллов. М., 1983. С. 14.
20 Топоров В. Н. Первобытные представления... С. 17.
21 Там же.
22 Бернштейн Б. М. Традиция. .. С. 108-109.
23 См., например: Чистов К. В. Обряд//БСЭ. Т. 18. М., 1974. С. 231; Дробницкий О., Левада Ю. Ритуал // Философская энциклопе дия. Т. 4. М., 1967. С. 512-513; Арутюнов С. А. Обычай, ритуал, традиция // СЭ. 1981. № 2. С. 97; Benedict R. Ritual // Encyclope dia of the Social Sciences. V. XIII. L., 1934. P. 396; Leach E. Ri tual//International Encyclopedia of the Social Sciences. V. 13. L., 1968. P. 521.
24 О хозяйственно-экономической роли ритуала см., например: Rappaport R. A. Pigs for the Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People. New Haven; Loudon, 1973.
25 Топоров В. Н. Первобытные представления... С. 18.
26 Обобщение взглядов этологов и психологов на ритуализацию поведения см.: Huxley Sir J. Introduction//Philosophical Trans actions of the Royal Society of London. Series B. V. 251. P. 249- 271.
27 Из последних работ см. прежде всего: Абрамян Л. А. Первобыт ный праздник и мифология. Ереван, 1983.
28 Radcliff-Brown A. R. Taboo // Structure and Function Prim'tiv: Society. L., 1952. P. 148-149.
29 Homans С. С Anxiety and Ritual: the Theories of Malinowski and Radcliff-Brown //Amer. Anthrop. 1941. V. 43. P. 164-172.
30 См., например: Davis R. The Ritualization of Behaviour//Mankind 1981. V. 13. P. 103-112.
31 Hocart A. M. The Life-giving Myth and other Essays. L., 1970 P. 54.
32 См.: Абрамян Л. Л. Первобытный праздник... С. 14-20.
33 О ритуальной автокоммуникации см.: Wallace A. F. С. Religion an anthropological View. N. Y., 1966. P. 220-226.
34 См. подробнее: Байбурин А. К. Семиотический статус вещей.. С. 215-226.
