
Азадовский
.pdf
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
подробный обзор русских народных музыкальных инструментов (т. II,
стр. 384 — 385).
Несмотря на общее пренебрежительное отношение к народным песням, он живо чувствовал их художественную прелесть, примером чему может служить сделанное им описание народной песни, которую как-то довелось слышать. Наконец, в его трудах встречается большое количество пословиц и разных народных оборотов, свидетельствующее о прекрасном и глубоком владении материалом народной речи1.
Однако он и здесь остается верен общей своей просветительской позиции. Пословицу «гром не грянет, мужик не перекрестится» Болтин называет «подлою, редким известною», т. е. как интерпретирует Сухомлинов, «простонародною и малоизвестною в образованном обществе»2; с этих позиций он дал совершенно отрицательный отзыв о сборнике пословиц Антона Барсова,
87
утверждая, что сочинитель не сумел различить «годное от негодного» и поместил много такого, что «не имеет никакого значения и смысла».
Но Болтин не только живо чувствовал силу, меткую выразительность и яркую образность народного языка; он подходил к нему и как историк и как участник современного литературного движения. По настоянию Болтина были включены в словарь, составляемый Российской Академией, областные слова («провинциальные и неизвестные в столицах»); в своих «Замечаниях» Болтин доказывал, что такие слова имеют значение и историческое и лингвистическое («важны для словопроизводства») и что, наконец, они могут служить для обогащения литературы1; в этих же целях он требовал значительного увеличения включаемых в «Словарь» пословиц и «присловиц»2.
Противоречивые суждения и оценки Болтина чрезвычайно характерны для всей его эпохи; они делают его, пожалуй, наиболее типичным представителем отношения общества XVIII века к народной стихии и народной культуре. Эти противоречия отражали живую борьбу реальных отношений. Аналогичное отношение к народному творчеству встречается и у других деятелей XVIII века. Так, например, архангельский историкпросветитель Василий Васильевич Крестинин (1729 — 1795) негодует, что подрастающих детей пичкают сказками и бывальщинами.
§ 9. Просветительские позиции характерны и для М. В. Л омоносова (1711 — 1765), но его отношение к народной поэзии более сложно. Быть может, никто из русских писателей и деятелей XVIII века не был так связан с народом — его языком, поэзией, всей культурой в целом, как Ломоносов. Он был прекрасным знатоком народной речи и понимал ее роль в организации литературного и научного языка, что впервые отметил и подчеркнул Пушкин, указавший, что у Ломоносова «счастливое слияние
1 Сводка встречающихся у Болтина пословиц сделана М. И. Сухомлиновым; «язык врет, а ум не ведает»; «не убив медведя, продали его кожу»; «с миру по нитке, а голому рубаха»; «со лжи люди не мрут, но вперед им веры неймут»; «горшок котлу насмехается, а оба черны»; «дорога борозда к загону»; «на одном солнце онучи сушили» и многие другие (М. И. Сухомлинов, История Российской Академии», т. V, стр. 178, 181, 263 и др.).
2 Там же, стр. 181.
1М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, т. VIII стр. 105.
2Там же, стр. 45

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
книжного славянского языка с языком простонародным». Прекрасно он был знаком и с фольклором в самых разнообразных его проявлениях. Он понимал, что нельзя построить новую национальную культуру, не опираясь на весь исторический опыт народа, — это основная идея его как историка и как филолога.
Особенно интересовали Ломоносова вопросы мифологии. В одной из черновых заметок, впервые опубликованных А. Будиловичем3, Ломоносов высказывает сожаление, что русский народ не сумел создать целостную мифологическую систему, подобную древнегреческой мифологии. Создание такой системы отразилось
88
бы благотворно на развитии русской поэзии и литературы. Ломоносов, видимо, предполагал свести воедино все разрозненные сведения по русской мифологии и установить их соответствие с античной; в упомянутых черновых заметках сохранился и опыт таких соответствий; Юнона — коляда; Нептун — царь морской; Венера — Лада; Купидо — Лель; Церера — полудница; Плутон — черт; Марс — Полкан; Прозерпина — чертовка; нимфы-русалки; фавны — лешие; пенаты — домовые. Среди различных мифических существ он помещает также «Ягу-бабу», «шуликана»1 и «Здуная».
Значение этих мифологических выписок-заметок еще не разъяснено с достаточной ясностью и убедительностью. Будилович видел в них свидетельство только исторических интересов Ломоносова, полагая, что все эти материалы нужны были ему для изложения русской истории («Древняя российская история»), где они частично были использованы в главе «О княжении Владимирове прежде крещения»; но приведенные Будиловичем выписки свидетельствуют не только об исторических, но и о чисто этнографических и фольклористических интересах, органически сливавшихся у Ломоносова с проблемами историческими и филологическими. В заметке о синонимах он приискивает до пятнадцати синонимов для понятия «чары», в другой — до двадцати различных обозначений злого духа: леший, полудница и пр. (см. Будилович, стр. 102). Причем Ломоносов попутно отмечает их различные признаки и действия: например «у леших лева пола наверьху, тени нет»; черти живут «в омутах, водоворотах и пустых домах» и т. д. Несомненно, Ломоносова занимала мысль о приведении в стройную систему всех народных верований, что, конечно, также совпадало с историческими его занятиями; интерес к фольклору как историческому источнику проявляется и в других частях его
3 «М. В, Ломоносов как натуралист и филолог», СПБ, 1869; в более исправном виде напечатано П. Н. Берковым: «М. В. Ломоносов. Философские сочинения», М., 1940.
1 О представлениях, связанных с образом «шиликана» или «шуликана», см. заметку г. С. Виноградова «Шуликаны. Заметка к вопросу о культурном взаимодействии русских и якутов» («Очерки по изучению Якутского края», вып. I, Иркутск, 1927). Прежние исследователи — Павловский, Щапов — считали, что «шуликан» — образ якутской мифологии, откуда его заимствовало русское население в Сибири. Однако уже Серошевский («Якуты», 1904) считал возможным обратный путь; заметка г. С. Виноградова установила широкое бытование представлений о «шуликане» в районах, не находящихся ни в каком соприкосновении с якутским населением; упоминание Ломоносова, ставшееся не учтенным автором, свидетельствует, несомненно, о давнем бытовании этих представлений на русском севере и, таким образом, подтверждает древний характер образа «шуликана». См. также: Д. Зеленин, «Загадочные водяные демоны, «шуликуны» у русских», Lud slowianski, 1930, т. I).

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
«Российской истории»; в шестой главе, говоря о чуди, Ломоносов привлекает «Басню о Колоксае, сыне первого скифского царя Таргитая», которая, по мнению Ломоносова, «приводит в полную вероятность» догадки о единстве скифов и чуди. Ломоносов уже выдвинул, как это отметил академик Б. Д. Греков, проблему этногенеза славян, прекрасно понимая, что в образовании русского
89
народа принимали участие различные этнические элементы и в решении этого вопроса считал необходимым привлечь в широких размерах разнообразные народные предания и представления.
Материалы, включенные в «Древнюю российскую историю», были, как уже отмечено выше, широко использованы Чулковым и особенно М. Поповым в их мифологических работах. Текстуальные сближения, произведенные П. Н. Берковым1, свидетельствуют о порой почти буквальном заимствовании обоими авторами из книги Ломоносова. Поповым были учтены и критические замечания Ломоносова, что нашло отражение во втором издании его «Описания».
Чрезвычайно ценил Ломоносов и народную мудрость и выделял из массы фольклорных произведений пословицы и поговорки («российские пословия»), которые интересовали его также и в плане изучения языка. Ряд пословиц и поговорок включен им в «Риторику» (1748); еще более широко пользуется он ими в своей «Российской грамматике» (1755); наконец, сохранилось известие, что он составил не дошедший до нас небольшой сборник пословиц.
Но вместе с тем у него как у типичного просветителя наблюдается несколько ироническое, а порой и презрительное отношение к произведениям народной поэзии. Он совершенно пренебрежительно относился к народным сказкам и песням, отрицая их эстетическое и этическое значение: в сказках, по его мнению, не содержится «никакого учения добру нравов и политики» (Ломоносов, Сочинения т. III, стр. 207); впрочем, не вполне ясно, относится ли данная оценка к народным сказкам вообще или только к сказкам вроде Бовы, которую он и приводит в качестве примера таких безвкусиц, тем более что наряду с ними он называет и «великую часть французских романов». Позже Белинский (в «Литературных мечтаниях») считал глубокой исторической ошибкой Ломоносова его отношение к народной поэзии: «... он выучил в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но оставил без внимания народные песни и сказки».
Очень интересны пометки Ломоносова на принадлежащем ему экземпляре сочинения Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов»2. Они свидетельствуют о прекрасном знании Ломоносовым, тогда еще юноши, народной фразеологии и народных песенных образов. К примерам Тредиаковского,
1«Ломоносов». Сборник статей и материалов, т. II, М. — Л., 1946, стр. 120 — 122.
2Впервые обратил внимание на эти пометки М. И. Сухомлинов (сб. ОРЯС, т. 38, СПБ, 1886); более внимательно и с исчерпывающей полнотой они обследованы П. Н. Берковым в работах: «Ломоносов и литературная полемика его времени» (Л., 1936, стр. 54 — 63); «Ломоносов и проблема русского литературного языка в 40-х годах» («Известия Академии наук СССР», Отделение общественных наук, 1937, № 1 стр. 207 — 210) и в статье «Ломоносов и фольклор».

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
90
заимствованным из народной поэзии («тугой лук», «бел шатер»), он добавляет, видимо, солидаризируясь с позицией автора в данном случае, другие образы: «калена стрела», «зеленая дубрава». К знаменитому же признанию Тредиаковского о «поэзии нашего простого народа», которая привела его к таким выводам, Ломоносов приписывает цитату из народной песни: «По загуменью игуменья идет, за собою мать черна быка ведет». В этой цитате можно видеть пример хореической стопы, которым Ломоносов подтверждает замечание Тредиаковского, но, возможно, как полагает П. Н. Берков, видеть здесь и иронический пример. Это замечание исследователя представляется очень тонким и безусловно правильным: здесь как раз сказалось то двойственное отношение к народной поэзии, в котором отчетливо проявился конфликт непосредственного чувства с просветительским отношением.
Просветительская позиция в вопросах народного творчества характерна и для Державина. Участник кружка Львова, он отразил в своем творчестве характерное для конца XVIII века увлечение народной поэзией; в 1804 г. он пишет «Театральное представление с музыкой» «Добрыня», — несомненно, под прямым воздействием одноименной поэмы Львова, для которого источником послужили Кирша Данилов,
Левшин, Чулков; к 1812 г. относится заимствованная из тех же источников небольшая поэма «Царь-девица»; наконец, влияние отдельных народнопоэтических тем, образов, сюжетов, ритмов заметно проявляется и в его лирике (например, «Русские девушки» (1799); «Стрелок» (1799); «Атаману и войску донскому» (1807); «Похвала Комару» (1807) и др.).
Ни у какого писателя XVIII века не обнаружились с такой силой и яркостью стихи родного языка и народности, и вместе с тем в отношении Державина к народной поэзии было много таких элементов, которые сближали его позиции отчасти с позициями Сумарокова. Он признавал историческое значение народных песен и сказок, признавал за ним и некоторое эстетическое значение, но в целом он считал простонародную поэзию порождением грубого вкуса. В «Рассуждении о лирической поэзии» (1811) целая глава посвящена песне. Это небольшой трактат, примыкающий к рассуждениям о начале поэзии середины XVIII века и в значительной степени навеянный теми же источниками. В значительной степени Державин повторяет в своем «Рассуждении» теоретические положения Львова, особенно по вопросу о характере мелодии русских песен, которую он вслед за Львовым считает заимствованной из древней Греции. Что же касается содержания народных песен или, как он говорит, «старинных российских песен», то он признает их любопытное «разнообразие» в картинах и слоге и разнообразие передаваемых ими чувств; он отмечает «живое воображение дикой природы», «трогательные, нежные чувства» и даже «философическое познание
91
сердца человеческого»; есть песни, которые «изъявляют в веселых видах веселую фантазию», и, наоборот, есть такие, в которых доказывается «сравнениями нежнейшая в своем роде высокость мыслей, проницающая

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
душу», и, наконец, некоторые, по его замечанию, «мрачными картинами и множеством во вкусе Оссияна возбуждают к героизму». Примером последних он приводит песню «Уж как пал туман на сине море»1. Но все это для Державина скорее частности, не разрушающие его основного воззрения на народную поэзию как проявление вкуса простого и грубого; признанию тех или иных достоинств предшествует знаменательная оговорка: «Нельзя сказать, чтоб в них (т. е. народных песнях. — М. А.) и поэзии не было...», и тут же он добавляет: «хотя не во всех».
Наиболее же характерным памятником народной эстетики представляются Державину былины, известные ему по «Древнерусским стихотворениям» (1804), т. е. по сборнику Кирши Данилова. В них, по его утверждению, уже почти совершенно отсутствует поэзия; они и по содержанию и по форме «одноцветны и однотонны»; «в них только господствует гигантеск или богатырское хвастовство, как в хлебосольстве, так и в сражениях без всякого вкуса». «Выпивают одним духом по ушату вина, побивают тысячи бусурманов трупом одного, схваченного за ноги, и тому подобная нелепица, варварство и грубое неуважение женскому полу изъявляющая». Впрочем, эти черты Державин не склонен был приписывать всецело вкусу народа. Он полагал, что все эти песни сочинены уже после освобождения от татарского ига «каким-нибудь одним человеком, а не многими, чем и доказывается не вкус целого народа». Существенным достоинством этих поэм Державин считал лишь их «повторения», напоминающие аналогичные приемы гомеровых поэм2.
Узкопросветительская точка зрения на народную поэзию отразилась и в
«Discours sur la poesie russe» (1772) М. Хераскова. Написанное как предисловие к французскому переводу его поэмы «Чесменский бой», оно предназначалось специально для иностранных читателей (одновременно был опубликован и немецкий перевод) и имело целью показать им высокое состояние русской культуры. Вместе с тем оно представляло собой краткий исторический обзор русской поэзии.
Обзор свой Херасков начал с народной поэзии, и, таким образом, это «рассуждение» является первым опытом включения фольклора в целостное историческое развитие литературы, но, признавая историко-литературное значение народной поэзии, Херасков отрицает ее эстетическое значение и, предвосхищая взгляды Державина, считает ее проявлением низкой культуры. Сохранившиеся остатки наших древних поэм (песни об Илье Муромце, пирах Владимировых и им подобные) свидетельствуют, по мнению
92
Хераскова, о «вкусе, еще непросвещенном», и о «грубых стезях, коими следовали Музы во времена сии отдаленные». На русский язык «Discours» было впервые переведено с большим искусством П. Н. Берковым под заглавием «Рассуждение о российском стихотворстве»1.
§10. Характерное для исторической науки XVIII века просветительское
икритическое отношение к общекультурному и эстетическому значению памятников народной поэзии не мешало признанию и установлению их
1См. «Сочинения г. Р. Державина», т. VII, стр. 606
2Там же, стр. 608.
1 «Литературное наследство», т. IX — X, 1933, стр. 287 — 294.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
исторического значения. Наоборот, эти две стороны общего понимания проблемы фольклора находятся в тесной и неразрывной связи между собой. Отрицательное отношение к народной поэзии объясняется главным образом тем, что она рассматривалась исключительно как явление давно прошедшего времени, как отражение старинных, некультурных и примитивных нравов, как проявление и остаток древних суеверий, в которых сохранились еще дохристианские языческие представления и понятия. Но это же обстоятельство, т. е. признание глубокой древности фольклора, влекло за собой повышенный интерес к нему как историческому источнику, как к сохранившимся свидетельствам о прошлом народа, его прежнем устройстве, верованиях и пр. И именно с этого времени фольклор наряду с памятниками языка и материальной культуры прочно входит в круг исторических материалов и источников. Такое понимание, как мы видели, устанавливалось Татищевым, Болтиным, Ломоносовым, Г. Ф. Миллером. А между тем их очерки чрезвычайно тщательны и составлены с большой любовью и большим вниманием к народному быту. Сухомлинов совершенно справедливо называет описания различных местностей, составленные Иноходцевым, одним из «лучших этнографических очерков, появлявшихся в нашей литературе восьмнадцатого столетия»2. Но интерес к народной поэзии у него отсутствует; Н. Я. Озерецковский (сам — словесник) упоминает о песенках, которые поют девушки в Осташкове, но не приводит ни одного текста. Несомненно, в данном случае сказалась та же «просветительская» точка зрения. Если все же какие-нибудь народные предания или другие памятники фольклора встречаются в этих описаниях, то это только потому, что им приписывалась историческая достоверность, а все то, что представлялось им народным вымыслом, отметалось, как недостойное внимания и не могущее содействовать истинному познанию народного быта и народных нужд, которые стояли в центре внимания русских путешественников XVIII века. Единственным видом фольклора, привлекавшим их внимание, были пословицы, примеры которых можно найти в изобилии в их сочинениях.
93
Сплошь и рядом они интересуются происхождением пословиц, доискиваются до прямого их смысла, вскрывают исторические или физические условия их возникновения и т. п. ; так, например, Севергин дает подробное объяснение смысла и происхождения пословицы «и гусь цел, и волк пойман».
А. Н. Пыпин замечал по этому поводу: «Научное исследование начинается обыкновенно с того момента, когда утрачивается непосредственное тождество с народом»1. Путешественники XVIII века (во всяком случае, в своем большинстве) «еще не утратили этой непосредственности». Этому объяснению нельзя отказать в тонкости, но оно заключает в себе только частицу истины; позднейшая история научных изучений в области фольклора и этнографии хранит имена замечательных собирателей и исследователей из среды самого народа. Основная же причина — в той основной точке зрения, с которой подходили к явлениям
2 М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. III. СПБ. 1876, стр. 218.
1 «Вестник Европы», 1886, ч. X, стр. 795 — 796.

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
народной жизни ученые наблюдатели-путешественники XVIII века. Все они — глубокие патриоты и народолюбцы, они искренне были заинтересованы судьбой народа и его прогрессом, но потому-то они и отметали то, что, по их представлениям, не могло содействовать познанию и улучшению его быта.
Наиболее ярким и характерным примером представляется в этом отношении «Путешествие по Северу России в 1791 году» П. И. Челищева2.
Петр Иванович Челищев (1745 — 1811) был товарищем Радищева по Лейпцигскому университету; для него, как в для Радищева, характерно настойчивое стремление познать народ и уяснить его потребности и нужды; он негодует на всех, кто относится с небрежением к этой задаче и ко всему, что связано с подъемом культуры и жизненного уровня народа. «Любезное отечество! — восклицает он. — Сколько в тебе сокрыто сокровищей, а мы, погрязши в пустых замыслах и роскоши, забываем отыскивать и пользоваться оными!»3 Он глубоко интересовался всеми формами народного труда, интересовался языком народа и был одним из корреспондентов Российской Академии, прислав для составляемого ею «словаря» большое собрание областных слов; но он не замечал и не хотел знать ни обрядов народа, ни его поэтических преданий, ни всей поэтической стороны его жизни. Все это для него связано со страстно ненавидимым им «суеверием», причины которого коренятся, по его убеждению, в народной нищете. «Туман суеверий тем легче охватывает население, чем глубже, — пишет он, — нищета простирает свои отрасли по суеверной черни»4. Но зато он внимательно прислушивается к тем преданиям,
94
в которых видит историческое воспоминание или проявление религиозного чувства.
Ему же принадлежит «Послание в Российскую Академию», представляющее собой своеобразный трактат о народных (областных) словах. Правда, он называет просторечие «площадным наречием», но требует внимания к нему и видит в таких словах материал для истории языка. По поводу этого письма Сухомлинов замечал: «Отбросьте разные филологические наивности, и перед вами обнаружится стремление доказать во что бы то ни стало, что русский язык, как верное выражение ума и души народа, обладает всеми условиями для того, чтобы служить достойным орудием для просветительных целей»1.
Это позиция не одного Челищева: она объединяет и Лепехина и Озерецковского, и других ученых того века. Это результат ограниченности раннего просветительства, лишенного подлинного историзма и не представлявшего законов структуры и развития общества. Таким образом, подлинный и несомненный интерес и горячая симпатия к народу ученыхпросветителей XVIII века оказались в противоречии и не смогли органически сочетаться с их пониманием задач прогресса и культурного развития. Это обстоятельство явилось и причиной слабого участия
2Опубликовано впервые лишь в 1886 г. в издании Общества любителей древней русской письменности, под ред. Л. Н. Майкова.
3«Путешествие по Северу России в 1791 году», стр. 175.
4Там же, стр. 23, 24.
1 М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VII, стр. 401

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
Российской Академии и Академии наук в деле накопления и разработки материалов по народному творчеству.
В деятельности этих научных организаций вопросы народного творчества, народной мысли, народно-обрядовой жизни совершенно не затрагивались и даже, наоборот, сознательно отметались, если возникали по каким-нибудь случайным поводам. Единственным крупным накоплением фольклорных материалов, сохраненным нам Российской Академией, явилось богатое собрание пословиц и поговорок, включенное в ее «Словарь» («Словарь Академии Российской», ч. I — IV, СПБ, 1789 — 1794); одним из крупнейших вкладчиков в это собрание был Ипп. Богданович, сообщивший весьма много народных поговорок и народных слов; однако включение подобных материалов произошло только в результате длительной и упорной борьбы (подробно изложенной Сухомлиновым в восьмом томе его «Истории Российской Академии»). Для многих участников работы над «Словарем» народные пословицы ассоциировались с «простонародной грубостью», «неблагопристойностью», «невежеством». Вопрос о пословицах был теснейшим образом связан с общим вопросом о «просторечии», т. е. с простонародными словами и речениями, вокруг которых также шла острая и напряженная борьба. Наиболее решительным и страстным поборником включения в «Словарь» народной стихии был Болтин, которого поддерживали Лепехин, Озерецковский, а также Фонвизин. Народные слова проникали в
95
«Словарь» как слова технические (например, слова, употребляемые плотниками и каменщиками, сообщенные И. С. Захаровым; слова, относящиеся к различным ремеслам, сообщил Иноходцев и т. д.), как слова, которые могли бы быть использованы для замены иностранной терминологии, наконец, как материал исторический и историколингвистический. Но вместе с тем, — независимо от тех узкоутилитарных целей, которые выдвигали составители «Словаря» и которыми они оправдывали «допущение» простонародных слов в издание, которое должно было явиться не только историческим сводом всех русских слов, но дать и исчерпывающее представление о составе русского языка и тем самым явиться нормативным1, — такое включение означало невольное признание народного элемента и энергичное проникновение его в научную мысль. Таким образом, невольно вносились коррективы в господствующее просветительское отношение к явлениям народной культуры.
§11. Просветительское отношение к фольклору характерно для всего XVIII века в целом, и его проявления в той или иной мере встречаются
1 В окончательном постановлении о составе «Словаря» было решено вносить «не все областные слова, а только те, которые служат названиями для вещей, орудий и т. д., в
столицах неизвестных, а также и те, которые поведут к обогащению языка», или же изяществом своим превосходят слова, употребляемые в столицах для названия тех же предметов» (М. И. Сухомлинов, Цит. сочинение, вып. V, стр. 285 — 286. Курсив мой. — М. А.). Этот пункт формулировки был внесен в значительной степени по настоянию Болтина, который требовал максимального расширения этого раздела. Он считал необходимым, чтобы в «Словаре» были не только «отборные» и «употребительные» слова, но и «всякородные», т. е. «добрые и худые низкие и благородные, употребительные и неупотребительные (кроме неблагопристойных токмо)» (там же, стр. 285).

М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
почти у всех писателей этой эпохи, каковы бы ни были их исходные общественно-идейные позиции. На этом основана и практика изданий фольклорных текстов, допускающая свободное отношение к публикуемому материалу, и практика художественного фольклоризма. На первый взгляд может казаться, что общей просветительской позиции века противостоит Львов, однако метод его художественных обработок фольклора свидетельствует о той же исходной установке. «Добрыня» Львова и «Илья Муромец» Карамзина открыли собой целую полосу фольклорных поэм. И Львов, и Карамзин, и Херасков, и Богданович, и другие применяют народные формы стиха, заимствуют былинную и сказочную тематику, но все это носит чисто внешний характер, ибо всем им был совершенно чужд самый дух и подлинный целостный стиль русской народной поэзии. Художественный фольклоризм этих писателей покоится на требовании очищения народной поэзии от ее «грубости», причем Львов — и в этом оригинальность его позиции — стремился найти элементы для этого преодоления в самой народной поэзии.
96
Во всех этих фактах обнаруживаются типичные для XVIII века проявления интереса к народности без народных масс; это — народность, еще чуждающаяся народа и создающая нарочито иллюзорные о нем представления. Международные политические события, в первую очередь французская революция, и такие грандиозные события внутренней жизни, как восстание Пугачева, в новом свете раскрывая для дворянской и буржуазной интеллигенции облик народа, еще более укрепляли эти настроения и создавали почву для дальнейшего отчуждения от народных масс, их запросов и идеалов. Но на этой же почве возникали и развивались иные отношения и иные идейные течения, создававшиеся в борьбе с усиливавшейся политикой укрепления крепостнического режима. В последние годы XVIII века окрепли и приобрели стройную систему идеологические тенденции демократического фронта, наиболее ярким и последовательным представителем которых выступил Александр Николаевич Радищев (1749 — 1802). Радищеву посвящена обширнейшая литература; историография дореволюционного периода подробно изучала биографию Радищева, сущность его политического мировоззрения, его литературные и философские источники и т. д., но подлинный смысл его деятельности и его подлинное значение вскрыты только в работах советских исследователей, положивших начало новому пониманию его облика. Старая историография изображала Радищева послушным учеником французских энциклопедистов XVIII века, политическим мечтателем-утопистом, ранним, предшественником конституционалистов XIX века. Эта либеральная легенда начисто отвергнута советскими учеными. Не робким учеником энциклопедистов предстает в свете новых исследований Радищев, но, как пишет Г. А. Гуковский, «последним и самым блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов XVIII столетия в России». Он самостоятельно продумал все основные вопросы, выдвинутые энциклопедистами, и сумел сделать из них решительные политические и социальные выводы. Он сумел преодолеть и просветительское отношение к народу и народной культуре, что отразилось и в его политической программе, и в его эстетике. Его программа исходит из интересов широких порабощенных масс. Восстание Пугачева и французская революция были
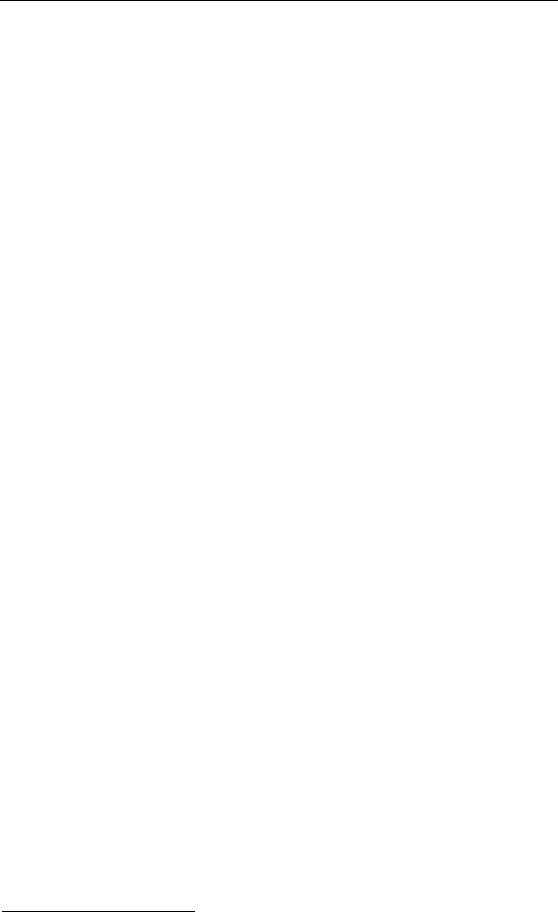
М.К.Азадовский. История русской фольклористики. Фольклористика XVIII века.
для дворянских и буржуазных писателей тяжелым испытанием, которого многие не выдержали. Угроза крестьянской революции определила собой дальнейшую эволюцию политической мысли дворянства, заставляя порой самых прогрессивных деятелей переходить в лагерь реакции. В противовес им Радищев не только не боится крестьянской революции, но понимает ее закономерность и неизбежность и верит в ее великую созидательную роль, что у него тесно связано с огромной верой в творчески созидательные силы народных масс.
В основе политической философии Радищева лежит глубокая вера в народ и его творческие силы. Особенно ярко это отражено
97
(на что первый обратил внимание Г. А. Гуковский) в главе «Городня», где Радищев, намного и надолго опережая свое время, высказывает уверенность, что народная революция немедля же создаст свою интеллигенцию из среды доселе угнетенных масс. «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны»1. Эта вера в творческую силу народа определяет характер воззрений Радищева на формы и сущность народной культуры, и они же определяют его отношение к фольклору.
В «Путешествии» новая для русской литературы XVIII века позиция в отношении к фольклору: он привлекается не в качестве свидетельства о старине и прошлом быте или прошлом вкусе народа, даже не как материал для обновления языка и литературы, но как форма народной мысли, как выражение народного сознания, как путь к его познанию и как основа народной культуры.
Наиболее характерной и принципиально важной является глава «София»; Радищев слушает «заунывную» песню ямщика и замечает по этому поводу: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкаго». И далее следуют особенно многозначительные слова: «На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа»2. Из этих слов ясно видно, как смотрел на народную песню Радищев; в ней он видел не «народную забаву» или «утеху», как большинство его современников, не явление отвлеченно-эстетического порядка, но отображение народной души и народного характера; в ней он видел символ не только настоящего положения народа, но и грядущих судеб русской истории: «бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровию от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в истории Российской»3. Этот образ бурлака, идущего в кабак, позже вспомнит Герцен. В «Путешествии...» Радищев неоднократно пользуется образами фольклора: упоминает о хороводах, о «березоньке»,
1А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, изд. АН СССР, М — Л., 1938, стр. 368.
2Там же, стр. 229, 230.
3Там же, стр. 230.
