
- •Глава 1. Итальянские гуманисты XIV-XV вв.
- •3. Флорентийские платоники
- •5. Социально-философские идеи никколо макиавелли
- •6. Христианский гуманизм и просветительство эразма роттердамского
- •Примечания
- •1. Леонардо да винчи
- •2. Астрономические открытия XV-XVI вв. Николай коперник
- •3. Органистическая и пантеистическая натурфилософия ренессанса
- •4. Натурфилософия джордано бруно
- •5. Жизнь и идеи кампанеллы
- •Примечания
- •.Глава 3. Парадоксы реформации: от независимой веры к независимой мысли
- •1. Знание, вера и воля в теологии ранней реформации
- •2. Исток и тайна немецкой реформации
- •3. Мирская аскеза и формирование нового естественного права
- •4. Культурно-историческое значение реформационного процесса
- •Примечания
- •Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. М., 1960. С. 62. Ill Источники по истории Реформации. Вып. 1. М., 1906.
- •.Глава 4. Скептицизм XVI-XVII вв.
- •Примечания
- •2. В преддверии философии нового времени
- •Примечания
- •.Глава 1. Френсис бэкон (1561-1626)
- •1. Жизненный путь и сочинения ф. Бэкона
- •2. Главные идеи философии ф. Бэкона
- •Примечания
- •.Глава 2. Рене декарт (1596-1650)
- •1. Жизненный путь и сочинения р. Декарта
- •2. Основы учения декарта в контексте философских дискуссий XVII в.
- •.Глава 3. Картезианство в XVII в.
- •1. Окказионализм
- •2. Материалистическая интерпретация картезианства
- •3. Блез паскаль (1623-1662)
- •Мальбранш н. Разыскание истины. СПб., 1904. Т. 2. С. 320.
- •1 Паскаль б. Мысли // Библиотека всемирной литературы. М., 1974. Т. 42. С. 168.
- •.Глава 4. Бенедикт спиноза (1632-1677)
- •1. Жизненный путь и сочинения б. Спинозы
- •2. Основные принципы и идеи философии спинозы
- •20 Спиноза б. Избр. Произведения. Т. 1. С. 414. 21 Там же. С. 464. 22 Там же. С. 529-533. 23 Там же. С. 534. 24 Там же. С. 536. 2s Там же. С. 537.Глава 5. Томас гоббс (1588-1679)
- •1. Жизненный путь и сочинения т. Гоббса
- •2. Основные идеи философии т. Гоббса
- •Гоббс т. Избр. Произведения. Т. 1. С. 681. 24 Там же. 25 См.: Там же. С. 154. 26 Там же. С. 156-157.Глава 6. Джон локк (1632-1704)
- •1. Жизненный путь и сочинения дж. Локка
- •2. Основы философского учения дж. Локка
- •3. Человек и его сущность. Государственное правление
- •.Глава 7. Философия в англии после локка (шефтсбери, мандевиль, хатчесон)
- •ИГлава 8. Готфрид вильгельм лейбниц (1646-1716)
- •1. Жизненный путь и основные сочинения г. В. Лейбница
- •2. Философское учение г. В. Лейбница
- •Примечания
- •Примечания
- •Глава 10. Дэвид юм (1711-1776)
- •1. Жизненный путь и сочинения д. Юма
- •2. Основные идеи философии д. Юма
- •Примечания
- •После юма
- •1. Адам смит как философ-моралист
- •2. Шотландская философия здравого смысла.
- •.Раздел III Философия Просвещения
- •Глава 1. Философия французского просвещения
- •Введение: постановка проблемы. Дискуссии о специфике философского мышления
- •1. Основная проблематика французской просветительской философии учение о природе
- •3. Понимание истории
- •I. Способ мышления эпохи
- •5. Теория познания
- •6. Личности и судьбы
- •Заключение
- •Примечания
- •1. У истоков просветительской мысли германии
- •2. Христиан вольф и его последователи
- •3. Антивольфианство и основные направления философской мысли периода зрелого просвещения
- •Литература
- •Zeller e. Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz. Miinchen, 1875.Глава 3. Философия американского просвещения
- •2. Подход к природе
- •3. Представления о процессе познания
- •4. Отношение к религии и нравственности
- •Примечания
- •.Раздел IV Философия второй половины XVIII— первой половины XIX вв.
- •Глава 1. Исторический и социокультурный контекст развития европейской культуры и
- •Философии
- •Примечания
- •.Глава 2. Философское значение немецкой литературы (гёте, шиллер, романтики)
- •Примечания
- •.Глава 3. Немецкая классическая философия немецкая классическая философия: единство и многообразие
- •1. Жизненный путь и сочинения и. Канта
- •3. «Критика чистого разума»
- •1. Количества: Единство Множество Целокупность
- •3. Отношения:
- •2. Качества: Реальность Отрицание Ограничение
- •4. Модальности:
- •4. Мир нравственности и категорический императив
- •Примечания
- •.Глава 5. Из истории немецкой философии XVIII-XIX вв. (гердер, рейнгольд, маймон, бардили, якоби). Полемика вокруг философии канта
- •Примечания
- •1. Жизнь, сочинения и основные идеи фихте1
- •2. Наукоучение фихте как основание его системы
- •3. Учение фихте о человеке, обществе, государстве, праве и нравственности
- •Примечания
- •.Глава 7. Фридрих вильгельм шеллинг (1775-1854)
- •1. Жизненный путь и сочинения ф. В. Шеллинга1
- •2. Натурфилософия шеллинга и естествознание
- •3. Сущность и специфика трансцендентального идеализма раннего шеллинга
- •4. Философия позднего шеллинга
- •Schelling f. W. J. Philosophie der Offenbarung. S. 259.Глава 8. Георг вильгельм фридрих гегель (1770-1831)
- •1. Основные периоды жизни, сочинения и идеи гегеля
- •2. Философия права гегеля
- •3. «Наука логики» и система гегеля
- •4. Философия духа гегеля
- •Примечания
- •1. Гегельянство: общая характеристика
- •3. Философия карла маркса
- •Примечания
- •.Раздел V Философия XVIII—XIX вв. В России
- •Глава 1. Век просвещения в россии введение
- •1. Сторонники и противники петровской вестернизации
- •2. Жизненная и философская драма радищева
- •3. Философия в университетах и академиях
- •Примечания
- •См.: Зеньковский в. В. Указ. Соч. Т. 1, ч. 1. С. 86-90.
- •См.: История философии в ссср. Т. 2. С. 40-44.
- •Iе См.: Русская философия второй половины XVIII в. С. 32—72.
- •См.: Русская философская поэзия: Четыре столетия / Сост. А. И. Новиков. СПб., 1994. С. 47-52.Глава 2. Двуликий янус
- •1. Либералы, радикалы, консерваторы
- •3. Западничество: его история и суть
- •4. Философская мысль духовно-академического направления
- •5. Разнообразие философии в контексте культуры
- •Примечания
- •См.: Русская идея / Сост. М. А. Маслин. М., 1992. С. 91-103.Глава 3. Владимир соловьев (1853-1900)
- •1. Жизненный путь и сочинения в. С. Соловьева
- •2. «Критика отвлеченных начал» и обоснование "цельного знания"
- •3. Оправдание добра
- •4. Свободная теургия
- •5. Национальный вопрос в россии и русская идея
- •Примечания
- •.Заключение основные принципы классической философии нового времени
- •Раздел I
- •Глава 1
- •6Раздел I Философия эпохи Возрождения 3
- •2. Доктрический период
- •1 Антропоцентризм
- •13 Философия людвига фейербаха
Примечания
1 Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. М., 1955. С. 11. 2 Там же. С. 9. 3 Там же. С. И, 23. * Там же. С. 854.
5 Польские мыслители эпохи Возрождения. М., I960. С. 59~60. 6 Там же. С. 42.
7 Paracelsus. Das Licht der Natur. Philosophische Schriften. Leipzig, 1973. S. 7. «Ibid. S. 8.
9 Бруно Дж. Диалоги. M., 1949. С. 236. ™ Там же. С. 316. и Там же. С. 271.
Bruno G. Opera latine conscripta. Napoli; Firenze, 1879-1891. Vol. I. Pars II. P. 312.
Бруно Дж. Диалоги. С. 208.
Bruno G. Opera latine... Vol. I. Pars II. P. 313.
Бруно Д. Диалоги. С. 204. Iе Там же. С. 320. 17 Там же. С. 458.
18Bruno G. Opera latine... Vol. I. Pars II. P. 316.
Campanella T. Dio e la predestinatione. Firenze, 1949-1951. Vol. 1. P. 134.
Эстетика Ренессанса / Сост. В. П. Шестаков. М., 1981. Т. 2. С. 425.
Кампанелла Т. Город Солнца. О наилучшем государстве // Из сонетов Кампанеллы / Ред. и авт. вступит, ст. В. П. Волгин. М., 1954. С. 45 . 22 См.: Там же. С. 136, 138. 23 Там же. С. 71
.Глава 3. Парадоксы реформации: от независимой веры к независимой мысли
1. Знание, вера и воля в теологии ранней реформации
Эпоха Ренессанса была временем великого подъема искусства и независимого научного исследования. Куда труднее определить, чтб она означала для религиозной и религиозно-нравственной жизни.
Русский философ И. А. Ильин справедливо заметил, что интегральным понятием всей культуры Возрождения следует считать понятие непосредственного, свободного духовного опыта и что религия оказалась той сферой, где этот опыт заявил о себе всего раньше и всего убедительнее. XIV и XV вв. — время решительного наступления на схоластику, представлявшую собой практику "разумного истолкования несвободного, догматизированного опыта"1. Это века, когда впервые было поставлено под сомнение "нелепое и чудовищное представление о религиозном "профане" как о человеке, неспособном к подлинному религиозному опыту и обязанному веровать в то, что ему предпишут другие"2.
Эпоха Ренессанса отмечена никогда прежде не виданным многообразием христианских воззрений, которое связано с углубившейся персональностью веры. Сотни людей, как в "верхах", так и в "низах" позднесредневекового общества, пытаются "найти своего собственного Христа в своем собственном сердце" и соответственно составить самостоятельное и выстраданное представление об отношении Бога и мира. Стремительно растет число новых сект и диссидентских движений, с которыми господствующая церковь уже не может справиться ни рационально (с помощью ученого богословия), ни дисциплинарно (посредством запретов и преследований).
Было бы, однако, опрометчиво оценивать этот процесс просто как благотворное оживление религиозной жизни, которому могли сопротивляться только завзятые церковные догматики.
Сектантско-диссидентское свободомыслие XIV-XV вв. быстро перерастало в конфессиональную анархию. Оно несло в себе тенденции, которые приводили в смущение не только ответственного христианского теолога, но и всякого человека, привыкшего видеть в Боге прочное основание нравственной жизни.
»Обнаруживал ось, например, что "поиски Христа в собственном сердце" сплошь и рядом выводили далеко за пределы христологии, в область неоязыческих или мистико-пантеистических воззрений. Священное Писание толковалось совершенно субъективистски, как "какая-нибудь гадальная книга" (Мартин Лютер). Бог утрачивал трансцендентную таинственность, делался легкодоступным объектом наития или оккультных практик. Порой дело доходило до своеобразного теологического титанизма — до уверенности в том, что человек всесилен в своем воздействии на Бога и может принудить его (!) к благодеяниям с помощью особо изощренной аскезы или магии.
Еще чаще случалось, что Бог, — если воспользоваться выражением Канта, — делался все более "индульгентным", т. е. снисходительным к человеческим слабостям, манипулируемым и, наконец, подкупным (скандальная продажа индульгенций в начале XVI в. была лишь предельно наглым практическим выражением этой широкой общей тенденции).
Мечтательному представлению о способах стяжания небесного блаженства (особенно притягательному для богатых) соответствовали грезы о скором пришествии "земного рая" (духовный опиум для бедных и угнетенных). Служители папской церкви все более напоминали кассиров, торгующих входными билетами в царство небесной гармонии. Плебейские же духовные вожди рядились в хитоны пророков, чудодеев, толкователей внутренних и внешних знамений. И в тех, и в других было очень мало подлинно христианского.
Обобщая все это, можно сказать, что в сфере религиозно-нравственной эпоха Ренессанса была еще и эпохой Декаданса (повсеместно ощущаемого духовного упадка).
В самом деле: возвращение к первоначалам евангельской веры соседствовало с бурным оживлением суеверий и оккультизма (поклонения реликвиям, астрологии и демонологии, каббалы и хиромантии, ведовства и страха перед ведовством). Успехи новых нравственно-аскетических учений (Фома Кемпийский) бледнели перед успехами магии. Критико-рационалистические достижения поздней схоластики (Дуне Скотт, Уильям Оккам, Роджер Бэкон) смотрелись как слабые огни в сгущающемся мраке мистицизма. Попытки строго морального истолкования евангельской проповеди (Лоренцо Валла и Эразм Роттердамский) находили противовес в примитивном, нравственно равнодушном, а то и прямо-таки манихейском профетизме и утопизме. И все это — в условиях кризиса и стагнации сложившейся церковной организации
Неудивительно, что в клерикальной публицистике эпохи Возрождения мы не найдем никаких восторгов по поводу возрождения (духовного подъема и оздоровления). Честные и мыслящие ее представители исполнены глубокой тревоги; они говорят о развращенности священного сословия, повсеместном упадке нравов, бедственном состоянии церкви и веры. Из этой тревоги, находившей отзвук в широкой массе мирян, рождается страдательно-творческое движение за обновление веры, обратившееся против папства и уже в первой трети XVI столетия получившее подлинно демократический размах. Движение это — религиозная реформация. Она начинается энергичной проповедью Лютера и проходит через такие драматические события, как формирование лютеранской церкви в германских княжествах; подъем анабаптизма и крестьянская война 1524-1525 гг.; утверждение кальвинизма в Швейцарии; распространение протестантства в Нидерландах, Скандинавии, Англии и Франции; борьба Нидерландов за независимость (1568-1572); чудовищные религиозные войны первой половины XVII в., приведшие к утверждению идей веротерпимости и отделения церкви от государства; появление "второго поколения" протестантских конфессий (социниане, пиетисты, гернгутеры, квакеры, мормоны и т. д.); английская революция 1645-1648 гг. Признанными лидерами Реформации были Мартин Лютер (1483-1546), Ульрих Цвингли (1484-1531) и Жан Кальвин (1509-1564).
Для того, чтобы составить адекватное представление об отношении Реформации и Ренессанса, необходимо обратиться к содержанию раннереформационной проповеди (к сочинениям Лютера, Цвингли и Кальвина, появившимся в 20-30-х гг. XVI в.).
Несомненно, что ранняя Реформация наследовала основному почину Возрождения — его персоналистскому духу. И. А. Ильин совершенно прав, когда утверждает, что самостоятельный духовный опыт, культивированный Ренессансом, "Реформация провозгласила [...] верховным источником религиозной очевидности"3. Продолжая основное — персоналистское — усилие гуманистов XIV-XV вв., первые реформаторы сделали попытку "создать новое учение о Боге, мире и человеке [...] на основании свободной познавательной очевидности"4. Гуманистов Возрождения и представителей раннереформационной мысли роднила патетика свободной совести, идея возврата к истокам (в одном случае — к античным и евангельским, в другом — к евангельским и святоотеческим); стремление к нравственному толкованию Писания; глубокая неприязнь к схоластике, догматике и застывшим формулам церковного предания. Совпадения эти столь очевидны, что не раз рождали соблазн сочленить Ренессанс и Реформацию в одну социокультурную и духовную эпоху4.
Но не менее существенна и другая сторона проблемы. Реформация — не только продолжение Ренессанса, но и протест против него — протест решительный, страстный, порой отливающийся в фанатические формулы антигуманизма и даже мизантропии. Брать эти формулы под защиту значило бы отказываться от цивилизованного, человеколюбивого образа мысли. И вместе с тем нельзя не видеть, что несогласие Реформации с Ренессансом было достаточно обоснованным и что сам цивилизованный образ мысли многим обязан этому несогласию.
Солидаризируясь с возрожденческим признанием индивидуаль^ ндго человеческого Я, ранние реформаторы категорически отвергали, однако, ренессансное родовое возвышение человека, возвеличение его как категории, как особого вида сущего (или — на теологическом языке — как особого вида твари). В возрожденческих дифирамбах по адресу человеческого совершенства (особенно выразительных, например, у Марсилио Фичино) они сумели расслышать тенденцию к обожествлению человека.
В раннереформаторских сочинениях персональный духовный опыт трактовался как наиболее надежный источник всех достоверно- стей и осознанных внутренних возможностей. Но одновременно подчеркивалось, что это опыт существа, способности которого (разум, интуиция, воображение, воля) принципиально ограниченны и несравнимы со способностями Бога.
Лютер, Цвингли и Кальвин прочно удерживают важнейшую экспозицию христианского вероучения (как восточного, так и западного), которая была затемнена или размыта в ре- нессансных теологиях: Бог трансцендентен миру (т. е. пребывает вне его, за пределами всего, что открывается во внешнем и внутреннем опыте) и несоразмерен конечному, бренному и греховному человеку.
Посмотрим, как этот тезис, возрождаемый в противовес Возрождению, отзывается в реформационных представлениях о познании (в эпистемологии, если говорить сегодняшним философским языком).
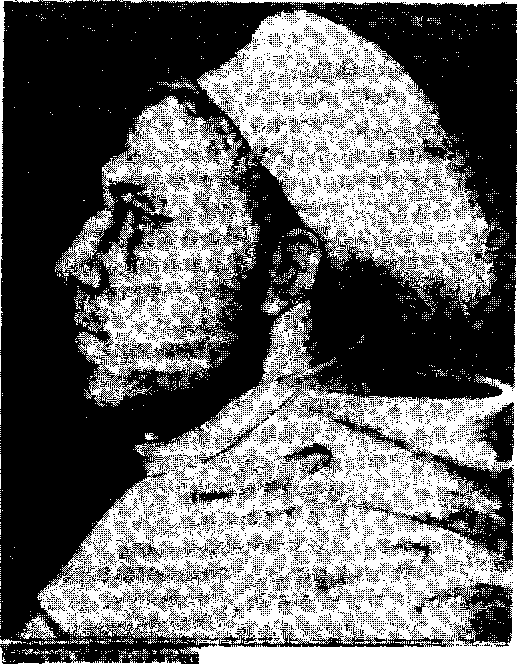
„„ i v
«г.-,, .
Мартин
Лютер
С той же решительностью реформаторы выступают против всякой рационально обосновываемой техники воздействия на божественную природу и божественную волю, т. е. против магии в любых ее выражениях. В раннереформационной литературе магия (вкупе с астрологией и другими искусствами прорицания) рассматривается как худший род умственной гордыни.
Но, может быть, отвергая рациональное познание Бога, первые реформаторы оставляют возможность для его созерцательного, интуитивного или мистического постижения? — Нет, сверхчувственное или сверхразумное (иррациональное) богопознание также ставится ими под сомнение. Никаких похвал интуиции раннере- формационные сочинения не содержат. Несколько сложнее обстоит дело с оценкой мистического опыта.
Мартин Лютер в юности был несвободен от влияния поздне- средневековых немецких мистиков (прежде всего Иоганна Тауле- ра). Однако к моменту первых критических расчетов со схоластикой он порвал с их исходными принципами, а в 1524 г. объявил войну мистико-спиритуалистическому богопознанию5. Что касается Цвингли и Кальвина, то они враждебно относились к мистике уже с начала своей реформаторской деятельности.
Мы задержались на этом вопросе, поскольку, в нашей исторической литературе времен "воинствующего атеизма" было распространено мнение, будто религиозные реформаторы (в отличие от гуманистов) критиковали средневековый схоластический разум с позиций мистики и иррационализма6.
Мнение это ошибочно по двум причинам: во-перзых, потому, что миетическее наитие (и другие экстраординарные душевные состояния) осуждаются реформаторами не менее резко, чем ratio, а во-вторых, потому, что разум, если он не претендует на постижение последней тайны бытия (т. е, природы, сущности, качеств и способностей Бога), в раннереформационных сочинениях не только не порицается, но и всячески превозносится. Со свойственной ему простотой и доходчивостью это выразил Лютер. "Разум, — говорил он, дарован нам не для постижения того, что над нами (природы Бога, ангелов и святых обитателей неба), а для постижения того, что ниже нае (животных, растений, состава веществ)". Разум, посягающий на исследование потустороннего, — либо мечтатель, либо шарлатан; но в мире посюстороннем нет преграды для его проницательности. Такова весьма своеобразная (и весьма радикальная) реформаторская трактовка теории двойственной истины, восходящей к аверроизму XIII в. и к философии Оккама. Экспозиция трансцендентности и рациональной непостижимости Бога дает на другом полюсе экспозицию доступного и познаваемого мира (природы и общества). Последнюю можно определить как богословское признание прав опытного наблюдения, исчисления, общезначимой проверки предположений и догадок, — признание, чрезвычайно благоприятное для становления новой, несхоластической рациональности, первым триумфом которой станет экспериментально-математическое естествознание7.
Но как все-таки быть с проблемой богопостижения? Не следует ли признать, что Бог, неисследимый ни для разума, ни для интуиции, ни для мистического озарения, вообще навсегда остается за завесой неведения?
Нет, это совершенно не соответствовало бы тому, что пыталась утвердить раннереформационная теология. Ее сокровенная парадоксальная мысль заключалась в следующем: Бог непознаваем и все-таки доступен пониманию; он скрыт для тех, кто дознается и исследует, но открыт тем, кто верит и внемлет. Или, по-лютеров- ски доходчиво и выразительно: "Бог лишь настолько известен человеку, насколько сам пожелал ему открыться". Откровение Бо- жие — это Богочеловек и Слово (божественное слово Писания). Бытие Бога для человека (единственный онтологический статус Всевышнего, который с очевидностью обнаруживается во всяком персональном религиозном опыте) — не что иное, как Личность с ее поступками и речью. Для постижения Бога как личности не требуется ни дедукции, ни индукции, ни экспериментов, ни экстраординарных душевных состояний; для этого вполне достаточно пассивного вслушивания в смысл священного текста. Последнее же (вслушивание) возможно лишь благодаря вере.
Важно понять, что вера в раннереформационной теологии — это вообще не познавательная способность, противостоящая способностям разума, интуиции или мистического слияния с божеством. Это прежде всего определение воли: "настроенность", или "установка", как сказали бы мы сегодня. Ведь в истоке, в наиболее элементарном своем выражении вера — это просто доверие (смиренное, терпеливое и любовное отношение к священному тексту, безоговорочное признание его правдивости и мудрости). Когнитивному (познавательному) отношению к Богу, которое стояло на переднем плане в средневековой схоластике, Реформация противопоставляет отношение герменевтическое (доверительно-понимающее). И конечно же, совсем не случайно то обстоятельство, что родоначальником новейшей герменевтики (теории понимания) станет в начале XIX в. выдающийся протестантский теолог Ф. Шлейермахер.
Безоговорочное признание правдивости и мудрости Писания — центральная идея раннепротестантской теологии. У Лютера, Цвинг- ли и Кальвина это решающий критерий для различения истинно христианских церквей от псевдохристианских (примат Писания над преданием, над постановлениями пап и соборов). Но одновременно это еще и предпосылка допустимого христианского плюрализма. На условии веры в истинность Писания возможно множество мнений, возможен — и даже необходим — спор о наилучшем толковании библейско-евангельского текста. Спор этот должен определяться известными общезначимыми правилами, и главным среди них признается "убеждение с помощью разумных доводов" (речь Лютера на Вормском рейхстаге 1521 г.).
Суть лютеровской декларации — не в допущении теоретических (например, естественнонаучных) аргументов в человеческое рассуждение о творце. Суть ее — в стремлении к рациональной организации самой герменевтической дискуссии. Определить оптимальные формы такой организации реформаторы, разумеется/ не могли (формы эти еще и по сей день остаются предм том полемики, в которую втянуты, пожалуй, самые выдающиеся философские умы последней трети XX столетия: Г. Г. Гадамер и Н. Луман, Дж. Роулс и Р. Рорти, К.-О. Апель и Ю. Хабермас). Правила разумного герменевтического спора, намеченные в раннереформационной теологии, были неуклюжи, обманчивы, ломки и, что особенно печально, грубо нарушались впоследствии самими же реформаторами. И все-таки именно раннему протестантизму принадлежит заслуга первого прикосновения к тому, что сегодня именуется "коммуникативной этикой", "рациональной этикой дискурса", или (если держаться терминологии XVII-XVIII вв.) — к основополагающим, философски значимым проблемам веротерпимости.
Раннепротестантские общины (например, в Виттенберге или Страсбурге 20-х годов XVI в.) были первыми в истории конфессиональными группами, где независимая вера обрела многие характеристики независимого мышления. Она рождалась как выбор совести, испытывалась на оселке Писания, оттачивалась в спорах с "равными по разуму" и реализовалась в активном противостоянии враждебному римско-католическому миру. Это была вера, далекая от мечтательства, уважающая мирское и практическое применение разума и неотделимая от воспитания воли.
Первые реформаторы заслуживают того, чтобы их признали самыми чистыми и последовательными фидеистами. Прочная вера, противопоставленная как рациональному, так и иррациональному богопознанию, рассматривается ими в качестве необходимого и достаточного условия спасения (sola fide — спасение только верой). Вера, начинающаяся с самоотрешенного вслушивания в смысл Писания, становится базисом для построения единого дела жизни, обнажающего суетность множества "добрых дел", предписываемых церковью, властями или обычаем. Следствием реформаторского фидеизма оказывается в итоге независимое, волевое, рассудительное и ответственное поведение в миру.
Нельзя не обратить внимания на парадоксальность этого следствия. Все реформаторы (и Лютер, и Цвингли, и Кальвин) доктри- нально отрицают свободу воли. Перед лицом Бога у человека нет ни воли, ни достоинства, — доказывает Лютер в трактате «О рабстве воли.» (1525), полемически заостренном против трактата Эразма Роттердамского «О свободе воли». Всякое действие человека отначала предопределено провидением, — категорически утверждает Кальвин в своем «Наставлении в христианской вере» (1536). Но может ли на почве вероучения, содержащего подобные постулаты, сформироваться независимый, волевой и ответственный мирянин? Разве не очевидно, что, сознавая себя существом, лишенным истинного достоинства, он будет легко мириться с подневольным, предписанным, рабским существованием? Разве сознание предопределенности всего им совершаемого не сделает мирянина фаталистом и квиетистом, безвольно капитулирующим перед обстоятельствами?
Утвердительный ответ на эти вопросы представляется чем-то логически очевидным. На деле такая очевидность покоится на сложном и далеко не очевидном мировоззренческом допущении, — допущении того, что мир представляет собой единое целое, прозрачное для нашего ума, и что Бог (или какой-либо эрзац бога) присутствует в нем имманентно и поддается нашему рационально мотивированному воздействию.
Но это, увы, не единственно мыслимый мир, и уж совсем не тот, в котором жил христианин XVI столетия. Для будущих приверженцев Лютера и Кальвина решающее значение имело представление о трансцендентном Боге, в которого можно только верить, и о принципиальном, непреодолимом разделении мира на посюсторонний и потусторонний. Поэтому из постулатов рабской воли и провиденциального предопределения ранний протестант с логической необходимостью делал выводы, далекие от квиетизма.
Да, перед Богом я раб, но только перед Богом! Только ему — через веру — полное смирение сердца, верноподданничество и безоговорочная покорность. Но именно поэтому добровольное рабство здесь, на земле, для меня невозможно, В отношении мирской власти допустимо лишь ограниченное повиновение, сообразующееся с достоинством моей персональной веры и е требованиями юридической справедливости. Ибо порядок небесного (Божьего) града не должен быть порядком града земного!
Да, моя судьба предопределена от века! Но именно вера в наличие этого высшего предопределения, каким бы оно ни было, дает мне силу противостоять любым мирским, посюсторонним определениям моей участи, любому давлению обстоятельств или ученых формул познанной необходимости. Потусторонняя предопределенность — это посюсторонняя (пусть только негативная) свобода. Или, как это великолепно выразит в своих разъяснениях Реформации Ф. Шеллинг: "В чем спасение от фатума? — Оно в провидении!".
Вера, как она трактуется ранними реформаторами, — это шифр свободной воЛи. Мирянин XVI в., сосредоточенный на небесном спасении, понимал его гораздо лучше, чем любые декларации, любую риторику свободной воли, в какой-то момент непременно замыкавшуюся на логику расчетливого стяжания земных благ. Теологи-реформаторы доктринально отрицали свободу воли и вместе с тем утверждали волю и независимость, которые приносит с собой прочная вера. Об этой воле и независимости нельзя сказать чего- либо положительного, связывая их с конкретным целеустремлением или объектом желаний. Они (как и понимание природы Бога) могут быть выражены лишь апофатичееки, лишь отрицательно. Свободная воля христианина — это своего рода роковое бессилие, неспособность вести себя не так, как требует вера. Именно таков философский смысл знаменитого девиза Мартина Лютера: "На том стою и не могу иначе!".
В пространстве рационального рассуждения о ценностях, целях и средствах раннепротестантские представления относительно предопределения, рабской воли и свободы христианина всегда останутся парадоксами. Парадоксален и весь историко-культурный облик теологов-реформаторов: это ортодоксы, восставшие против догматики, это фидеисты, благословляющие дерзость разума в изучении природы и общества, это горькие мизантропы, пробуждающие в мирянине-простолюдине чувство его человеческого достоинства.
Нет ничего легче, как уличать реформаторов в противоречиях и в потере логической памяти. Куда труднее (и важнее) увидеть скрытую смысловую последовательность их учения, которая в ту эпоху (эпоху глубокого цивилизационного перелома) могла реализоваться лишь диалектически-парадоксалистским образом8. Без парадоксов невозможно было вырваться из мира идолатрии, неизбежной для традиционного общества, и вступить в мир независимой веры, а затем и независимой мысли, отличающих Новое время. Без парадоксов нельзя было перейти от христианской религии, скованной церковным догматом и церковной соборностью, к христианской культуре, суть которой, как однажды кратко и точно выразился Мераб Мамардашвили, состоит просто в том, чтобы "в частном деле воплощать бесконечное и божественное".
Обратимся к исходному, провоцирующему и смыслоопределяю- щему, парадоксу реформационного процесса.
