
- •Предвидение будущего
- •4* Хотя мотивы исторического материализма кажутся мне неприемлем мыми, в данном пункте он прав.
- •Релятивизм и рационализм
- •Культура и жизнь
- •Двойной императив
- •7* См.: Fraseología у sinceridad, 1927, El Espectador ,9.
- •Две иронии, или Сократ и Дон Хуан
- •9* Стадии на этом пути самоуничтожения суть одновременно степени святости. Древний канон различает четыре главных ранга:
- •Шротаапана буквально «тот, кто подошел к реке», т. Е. Тот, кто вступил на тропу учения и приступил, таким образом, к спасению.
- •Сакридагамин,, «тот, кто еще один раз вернется»,—на этой ступени
- •Апагамин — «тот, кто уже не возвращается», не рождается на земле, но возвращается, чтобы еще один раз существовать в мире богов.
- •Лрхат — высшая ступень, какой только может достичь монах. На ней достигается полное угасание в нирване. См.: Pischel. Beben und Lehre des Buddha, s. 87—88 26.
- •Жизненные ценности
- •12* Сегодня все говорят о кризисе, но стоит напомнить, что это было сказано мною в 1921 г. И относилось к предшествовавшим ему годам27,,
- •Новые симптомы
- •Век довел до предела горечь рабочего дня. Сегодня моло
- •Учение о точке зрения
- •Лекция I
- •Лекция II *
- •3* К «истории любви». I. Смена поколений. Собр. Соч. Т. III.
- •6 Заказ № 406
- •Лекция IV *
- •Лекция V *
- •7 Заказ № 406
- •8 Заказ Ne 406
- •9 Заказ jm# 406
- •Лекция IX*
- •12 Заказ № 406
- •Предварительные замечания
- •13 Заказ № 406
- •Эпоха прогресса и эпоха опасности
- •Частные мнения людей, противоречащие вере их времени, не подлинны
- •Почему вера в разум прщнла в упадок
- •Человек нуждается в новом откровении, которое не способен дать физический разум
- •14 Заказ n 4с6
- •Прошлое философии
- •4* «Проповедь о законе божьем для Страстного Воскресенья».
- •Вторая мысль
- •Третья мысль
- •Четвертая мысль
- •Отдельные аспекты и предмет в целом
- •17* О смысле этой сентенции см. В моей работе «„Философия истории4 Гегеля и историология»% 1928 13,
- •1В* Термин не вполне ясный, поскольку мышление имеет как интуитивную, так и «логическую», или концептуальную, стороны. Но здесь не место углубляться в это.
- •19* См. Ссылку 12* на стр. 224.
- •20* Илиада, IV.
- •Диалектический ряд
- •Внутреннее тождество философии
- •16 Заказ № 406
- •Истинное название
- •36* На самом деле термин возник до него.
- •38* См.: Meditaciones del Quijote, 1914.
- •Философия открывает иной мир*
- •43* Под «поколением» я понимаю пекоторый отрезок времени длиной* около пятнадцати лет.
- •45* См.: «Заметки о мышлении»22.
- •46* См. Главу «Способность картин оживать». [в работе «Заметки о Веласкесе и Гойе» (1950)].
- •Vil Постоянные возможности человека *
- •47* Развернутое описание того, что я называю «категориями контекста»,, можно найти в моей книге «Aurora de la razón histórica».
- •Позиция Парменида и Гераклита
- •50* Мы еще называем Меркурием некий металл; мадридцы ходят гулять к фонтану Нептуна, а некоторые, не слишком удачливые, болеют венерическими болезнями, т. Е. Болезнями Венеры.
- •59* Известно, что Платон с определенной долей иронии относил напи-» санные законы к литературному жанру.
- •Философия и эпоха свободы
- •Исторические корни философской деятельности
- •64* «Das neue Bild der Antiquen», I, p. 113, 1942. («Мысль о том, что боги, возможно, могли и не существовать, могла быть высказана только в середине V века».)
- •66* «Timeo», 40 d—41 а 42*
- •67* «Amos», VII, 15.
- •68* См,: Wilamovitz, «Platón», I, p. 65 ss«
- •70* JTaccoii перепел плохо, так как рассматриваемый фрагмент следует понимать в его связи с фрагментом 1177b, 33.
- •71* «Prot.», 316 d, 317 b48.
- •72* «Соmm. In Met», 529 (982 b 29, 983 a. 2),
- •73* Фрагмент очень странный, поскольку в пем выражено требовавие: «философ» должен знать множество вещей, Гераклит же чаще всего выступает против «всезнайства».
- •74* Интересные соображения по поводу составных слов с cpiXo можно найти в книге: Reitli, «Gruudbergriffe der stoischen Elhik», p. 24, 28, 29.
- •75* Met. 3.983 b 3. И повторяет это в 993а 30,
- •76* Фрагмент 52.
- •[Исторические корни философии]
- •[Уровень нашего радикализма]
- •4* Хотя это также следует делать.
- •7* См. «Размышления о Дон Кихоте», 1914.
- •9* См. «Введение в „Историю философии1* Брейера»11.
- •12* О современном состоянии «веры в разум» см. «Заметки о мышлении:
- •14* См. «История как Система» и «Предисловие к „Истории философии*4 лБрейера»15. 1
- •[Вера и истина]
- •1Б* Здесь я не могу повторять то, что я имею в виду под «верованиями» sensu stricto, в узком смысле. См. Мой очерк «Идеи и верования».
- •21* Мы eiire увидим, что в Греции дело обстояло несколько иначе, ибо бытие не вопрос, а с самого начала — ответ.
- •24* См. Мое эссе «Вильгельм Дильтей и идея жизни» (Собр. Соч. Т. IV) о редких особенностях труда Дильтея, помешавших ее только мне, но и леем остальным воспользоваться им своевременно,
- •25* «Восстание масс»23, гл. XI.
- •Два утопизма
- •Говорить и молчать
- •Мы пе говорим всерьез
- •Montero п Naufrago hasta el fin ц El País. 1983. N 316.
- •44 Montero r. Naufrago hasta el fin ц El País, 1983. N 316. Jp. 30.
- •16 Ortega у Gasset j. La rebelión de las masas. Madrid, 1929. P. 164.
- •18 Montero r. Naufrago hasta el fin ц El Pais, 1983. N 316. P, 31,
- •21 Marias j. Ortega. Circunstancia у vocación, Madrid, 1984. Т. 1—2.
- •Ibid. Р. 50.
- •Соловьев э. Ю. Попытка обоснования новой философии истории в фупдаменталытой онтологии м. Хайдеггера ц Новые тенденции в западной социальной философии. М., 1068. С. 19.
- •Декарт р. Избр. Произведения. -м., 1951. С. 345.
- •Об этом см.: Кузьмина т. А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии. М., 1979. С. 10.
- •См.: Тавриаяп г. Л/. Техника, культура, челопек. М., 1986. С. 102.
- •Ibid. P, 60.
- •Marías j. Acerca de Ortega. Madrid, 1971, p, 74
- •Ortega у Ónsset у. Ni vitalismo, ni racionalismo ц Obras completas*. Т. III. P 273.
- •Ibid. Т. IV. P. 400,
- •25 Заказ Jvft 406
- •62 Ortega у Gasset j. Obras completas. Т. IV. P. 341.
- •64 Ortega у, Oasst j, Prólogo para alemanes. P* 66.
- •67 San Martin j. Cien años despues. Malaga, 1983.
- •72 Ibid.
- •Данте. Божественная комедия/Пер. М. Лозинского. М., 1967. С. 224.
- •Декарт р., Избр. Произведения. М., 1950. С. 448.
- •Евангелие от Матфея, 10; 39.
- •Осирис в дренеегипетской мифологии — бог умирающей и воскресающей природы. Гор —бог Солнца, сын Осириса и Исиды, изображался в виде сокола или человека с грловой сокола.
- •Ортега имеет в виду опубликованную в 1927 г. Книгу Хайдеггера «Бытие и время» (Sein und Zeit ц Jahrbuch für Philosophíe und phánomenologb
- •Вейль Герман (1885—1955)—математик, родился в Германии, е 1933 г„ жил в сша.
- •См.: Кузанский н. Соч. М., 1979. Т. 1. С. 104.
- •Декарт р. Избр. Произв. М., 1950. С. 272—273.
- •Коромандельский берег — восточное побережье полуострова Индостан в Индии, славящееся ловцами жемчуга.
- •Кристина Августа (1626—1689) королева Швеции в 1632—1654 гг. В обстановке «спора сословий» отреклась от престола.
- •Леб Жак (1859—1924)—американский биолог, один из основоположников физико-химической биологии.
- •Календы — первые числа месяцев в римском календаре. Выражение «отложить до греческих календ» означает отложить до времени, которое* никогда не наступит.
- •Бокль Генри Томас (1824—1862)— английский историк и социолог позитивистского направления, представитель «географической» шк©лы в социологии.
- •Приложение.
- •345, 347, 380, 384, 385, 392 Гойя ф. 252
- •388 Шоу б. 303, 399, 400 Шпенглер о. 10, 356, 383, 384, 388 Шредингер э. 196, 393 Штенцель 10. 236, 396
- •Isbn 5—02—008115—9
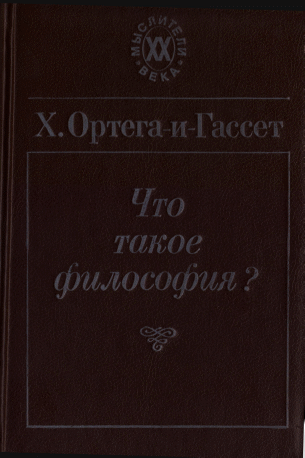
АКАДЕМИЯ
НАУК СССР Институт
философии
Хосе
Ортега-и-Гассет

X.
Ортега-и-Гассет
Что
такое философия ?
Москва
НАУКА
1991



ББК
87.3 063
0301030000
042(02)-
ISBN
5-02-
Ответственпый
редактор доктор философских наук М.
А, Кисселъ
Рецензенты;
доктора философских наук 27. 27. Гайденко,
Б.
Т.
Григорян
Редактор
издательства В.
С.
Егорова
-174
0^—
722—91 I полугодие
008115—9 ©
Издательство «Наука», 1991
Тема
нашего времени
Идея
поколений
Научной
системе важнее всего быть истинной. Но
изложепие научной системы налагает
еще одну обязанность: помимо истинности
ей необходима понятность. В данном
случае я имею в виду не трудность
абстрактного мышления, особенно когда
оно вводит что-то новое, а понимание
его глубинной тенденции, идеологической
интенции, можно сказать, всего его
облика.
Наше
мышление притязает на истинность, т.
е. на покорное отображение бытия вещей.
Было бы, однако, утопичным, а потому и
ложным предположение, будто для
реализации этой претензии мышление
руководствуется исключительно вещами,
принимая во внимание лишь их
взаиморасположенность. Если бы философ
встречался только с объектами, то
философия всегда была бы примитивной.
Но вместе с вещами исследователь
обнаруживает мысли других людей, все
прошлое человеческих размышлений,
бесчислеппые тропы предшественников,
следы путей, проложенных сквозь
вековую сельву проблем, сохраняющую
девственность, несмотря па вновь и
вновь возобновляемое насилие.
Любой
философский опыт, таким образом,
принимает во внимание две инстанции:
бытие вещей и то, как они осмыслялись.
Сотрудничество с предшествовавшими
размышлениями служит ему по крайней
мере тем, что позволяет избегнуть уже
совершенных ошибок и придает
последовательности систем характер
прогресса.
В
таком случае мышление эпохи может
занять по отношению к мысли других эпох
две противоположные позиции — в
особенности к недавнему прошлому,
являющемуся всегда наиболее действенным,
содержащим в себе все прошлое.
Действительно, есть эпохи, когда мышление
считает себя развитием зародившихся
прежде идей, и эпохи, ощущающие недавнее
прошлое как нечто, заслуживающее срочных
радикальных реформ. Есть эпохи мирной
¡
философии
и эпохи философии воинственной —
стремящейся раз- ^
рушить
прошлое посредством его радикального
преодоления. Наша эпоха принадлежит к
эпохе последнего типа, если под «нашей
эпохой» понимать не то, что сегодня
завершается, а то, что начинается.
Когда
мышление принуждено занять по отношению
к недавнему прошлому воинственную
позицию, интеллектуальное сообщество
раскалывается на две группы. С одной
стороны, огромная
3
масса,
составляющая большинство тех, кто
отстаивает устоявшуюся идеологию,
с другой — незначительное меньшинство
представителей авангарда, наделенного
чуткой душой, провидящей в дали будущего
неизведанные миры. Это меньшинство
осуждено на непонимание: масса не
может правильно истолковать движения,
вызванные вйдением новых далей,—
отставшие еще не достигли высоты, с
которой видна terra
incognita
*. Поэтому
ушедшее вперед меньшинство живет в
опасности — между новыми землями,
которые оно намерено завоевать, и
отставшей враждебной толпою за спиной.
Творя новое, оно должно защищаться от
старого, держа в руках — подобно
восстанавливавшим стены Иерусалима —
одновременно и заступ и копье *.
Этот
раскол является более глубоким и важным,
чем принято считать. Попробую пояснить,
в каком смысле.
Изучая
историю, мы стремимся к пониманию
перемен, происходящих в человеческом
духе. Для этого нам нужно прежде всего
обратить внимание на различия этих
изменений по их рангу. Одни исторические
феномены зависят от других, более
глубоких, независимых от первых.
Идея о том, что все на все влияет и все
от всего зависит,— это туманная мистика,
вызывающая отвращение у стремящегося
к ясности видения. Нет, тело исторической
реальности наделено иерархически
совершенной анатомией, порядком
субординации, зависимости между
различными классами рангов. Так,
трансформации в промышленности и
политике поверхностны: они зависят
от идей, от моральных и эстетических
предпочтений современников. В свою
очередь, идеология, вкусы, мораль
представляют собой лишь последствия
и спецификации радикального чувства
жизни, ощущения экзистенцией самой
себя в недифференцированной целостности.
То, что мы будем называть «жизненным
мироощущением», есть первичный
исторический феномен, первое, что
нам необходимо определить для понимания
эпохи.
Однако,
когда изменение мироощущения происходит
у одного индивида, оно не ведет к
исторической трансценденции. В области
философии истории обычно вступают в
спор две тенденции, являющиеся, на
мой взгляд (хотя я не собираюсь сейчас
останавливаться на этом вопросе),
одинаково ложными. Это коллективистская
и индивидуалистическая интерпретации
истории. Для первой субстанцией
исторического процесса являются
действия диффузных множеств, для
второй историческими действующими
лицами являются исключительно индивиды.
Активный, творческий характер
личности слишком очевиден, чтобы мы
могли принять коллективистский
образ истории. Массы восприимчивы, они
ограничиваются поддержкой или
сопротивлением людям, наделенным
личностной жизнью и инициативой.
Но, с другой стороны, одинокий индивид
есть абстракция. Историческая жизнь —
это сосуществование. Жизнь выдающейся
индивидуальности заключается как раз
*
Неведомая земля (лат.).
4
во
всеобъемлющем воздействии на массы.
«Героев» 'невозможно отделить от
масс2.
Речь идет о сущностной двойственности
исторического процесса. На всех ступенях
своей эволюции человечество всегда
представляло собой функциональную
структуру, в которой наиболее энергичные
— какой бы ни была форма этой энергии
— воздействовали на массы, придавая
им определенную конфигурацию. Это
предполагает некую базисную общность
высших индивидов и вульгарной толпы.
Абсолютно чужеродный для массы индивид
не мог бы произвести на нее ни малейшего
воздействия: его деятельность
скользила бы по социальному телу эпохи,
не вызывая в нем какой-либо реакции, не
входя, следовательно, в общеисторический
процесс. Это происходило неоднократно,
и на полях текста истории остаются
пометки — биографии этих «экстравагантных»
людей. Как и все биологические дисциплины,
история имеет специальный раздел
для монстров, тератологию 3.
Изменения
жизненного мироощущения, являющиеся
решающими в истории, предстают в
форме поколений. Поколение — это и не
горсть одиночек, и не просто масса: это
как бы новое целостпое социальное тело,
обладающее и своим избранным меньшинством,
и своей толпой, заброшенное на орбиту
существования с определенной
жизненной траекторией. Поколение,
динамический компромисс между массой
и индивидом, представляет собой самое
важное историческое понятие и является,
так сказать, той траекторией, по которой
движется история.
Поколение
— это человеческая разновидность в
том строгом смысле, каковое придают
этому термину натуралисты. Его члены
приходят в мир с некими типичными
чертами, придающими им общую физиономию,
отличающую их от предшествующего
поколения. В пределах этой идентичности
могут пребывать индивиды, придерживающиеся
самых разных установок, вплоть до того,
что, проживая друг подле друга, будучи
современниками, они чувствуют себя
зачастую антагонистами. Но за всеми
неистовыми «за»
и
«против»
взгляд легко обнаруживает проступающие
общие признаки. И те и другие являются
людьми своего времени, при всех различиях
в них еще больше сходства. Реакционер
и революционер XIX в. намного ближе
друг к другу, чем к кому-либо из пас.
Белые или черные, они принадлежат одному
виду, а с нас, черных или белых, начинается
другой.
Более
важной, чем антагонизмы «за»
и «против»,
в пределах поколения является неизменная
дистанция между избранными и вульгарными
индивидами. Имеющие широкое хождение
доктрины замалчивают или отрицают это
очевидное различие людей по рангу,
так что возникает даже желание его
преувеличить. Однако эти самые различия
в росте предполагают применение ко
всем индивидам одной точки отсчета,
одной общей линии: одни выше нее, другие
ниже. Она играет ту же роль, что уровень
моря в топографии. Каждое
поколение представляет собой некую
жизненную высоту,
с которой определенным образом
воспринимается существование. Если мы
возьмем эволюцию того или много народа
5
в
целом, то каждое поколение предстанет
как один из моментов его жизненности,
как пульсация его исторических
возможностей. У каждой из пульсаций
свой уникальный облик; каждое биение
пульса незаменимо, так же как незаменима
каждая нота в развитии мелодии. Мы
можем сходным образом представить
каждое поколение как своего рода
биологический 1*
снаряд, выпущенный в пространство в
точно установленное время, с определенной
силой, направлением. В движении
принимают участие его элементы и самые
ценные, и самые вульгарные.
Ясно,
однако, что мы просто конструируем
схемы или делаем наброски, которые
послужат нам для обнаружения поистине
позитивного факта, подтверждающего
идею поколения. Речь идет просто о том,
что одни поколения порождаются другими,
новое поколение находит формы, созданные
предшествующими. Для каждого поколения
жизнь есть работа в двух измерениях: в
одном оно получает пережитое
предшествующими поколениями — идеи,
оценки, институты и т. д.; в другом —
отдается спонтанному потоку
собственной жизни. Отношение к
собственному не может быть тем же, что
к получаемому. Созданное другими,
исполненное, совершенное в смысле
завершенности приходит к нам как бы
получив некое помазание, предстает как
священное; оно создано не нами, а потому
мы склонны считать его вообще
нерукотворным, самой реальностью.
Бывает, что идеи наших учителей кажутся
нам не мнениями каких-то людей, но самой
истиной, анонимно сошедшей на землю.
Напротив, паше спонтанное мироощущение,
то, что мы мыслим и чувствуем сами,
никогда не кажется нам законченным,
завершенным, застывшим словно какая-то
вещь, но воспринимается как внутренний
поток не столь плотной материи. Эта
ущербность спонтанного компенсируется
его большей живостью, приспособленностью
к нашему характеру.
Дух
каждого поколения зависит от уравнения,
образуемого этими двумя составными
частями, установкой, которую принимает
по отношению к ним большинство индивидов
поколения. Предается ли оно полученному,
не слыша внутреннего голоса спонтанности?
Хранит ли верность спонтанному,
непокорное авторитету прошлого?
Существовали поколения, ощущавшие
достаточную однородность полученного
и собственного. Такова жизнь в кумулятивные
эпохи.
Другие чувствовали глубокую разнородность
этих элементов, тогда внезапно приходили
эпохи
отрицания и полемики,
поколения борьбы. В первом случае
молодые солидарны со старыми, подчиняются
им: в политике, в науке, в искусстве ими
руководят старцы. Это времена стариков.
Во втором, поскольку речь идет не о
сохранении и накоплении, а об отстранении
и замене, старики выметаются молодыми.
Это времена юных, эпохи обновления
и созидательной воинственности.
1*
Термины «биология», «биологическое»
используются в этой книге — пока нет
специальных оговорок — для обозначения
науки о жизни, т. е. реальности, для
которой второстепенны различия тела
и души. (Здесь и далее примечания Ортеги
помечены цифрой со звездочкой.— Примеч.
ред.)
6
Этот
ритм — эпох старчества и эпох юности
— является на-t
столько
очевидным феноменом истории, что
удивительно, как на него никто не обратил
внимания. Причина же в том, что еще никто
не пытался создать новую научную
дисциплину, которую можно было бы
назвать метаисторией.
Она соотносима с конкретными
историческими науками так же, как
физиология — с клиникой. Одним из
самых любопытных метаисторических
исследований явилось бы открытие
больших ритмов истории. Ибо, помимо
вышеуказанного, имеются и другие,
не менее очевидные и фундаментальные:
например, ритм полов. Имеются признаки
того, что маятник истории колеблется
между эпохами с подавляющим влиянием
мужчин и эпохами; подчиненными женскому
влиянию. Многие доныне необъяснимые
институты, обычаи, идеи, мифы неожиданно
получают объяснение, когда отдаешь
себе отчет в; том, что некоторые эпохи
управлялись и формировались при
главенстве женщин. Но сейчас не время
углубляться в этот вопрос.
Если
каждое поколение наделено особым
мироощущением, органической
совокупностью внутренних склонностей,
то это значит,; что у каждого поколения
свое призвание, своя историческая
миссия. Над ним довлеет суровый
императив: взрастить эти семена,,
преобразовать окружающее в соответствии
с характером своей1
спонтанности. Бывает так, что, подобно
индивидам, поколения предают свое
призвание, и их миссия остается
невыполненной. Действительно, есть
неверные самим себе поколения,
уклоняющиеся от заложенных в них
исторических целей. Вместо того чтобы
решительно свершать предуготовленную
им задачу, они;
глухи к постоянному зову своего призвания
и предпочитают покоиться среди идей,
институтов, удовольствий, созданных
несходными с ними по темпераменту
предшественниками. Такое дезертирство
исторического народа, понятно, не
проходит безнаказанно. Преступное
поколение тащится по жизни в вечном
разладе с самим собой, терпит жизненное
крушение.
Я
полагаю, что по всей Европе, но особенно
в Испании, нынешнее поколение является
одним из таких поколений-дезерти- ров.
Редко доводилось людям жить в подобном
непонимании самих себя, и, пожалуй,
никогда еще человечество не было столь
послушно чуждым ему формам, пережиткам
других поколений, не находящим отклика
в его сердце. Отсюда столь характерная
для нашего времени апатия, например в
политике и в искусстве. Наши институты,
как и наши спектакли, являются
окостеневшими остатками другой
эпохи. Мы не сумели решительно порвать
с этими загнивающими отложениями
прошлого, но мы не можем и приспособиться
к ним.
В
подобных обстоятельствах нелегко
понять идеологическую интенцию,
внутренний облик системы мыслей, которую
я вот уже несколько лет излагаю с этой
кафедры. Она представляет собой
7
Предвидение будущего
пока
что нереализованное стремление —
выразить со всею тщательностью
исторический императив нашего поколения.
Но поколение, кажется, упрямо не
желает слышать внушения нашей общей
судьбы. Я поневоле пришел к убеждению,
что даже наилучшие его представители,
за крайне редкими исключениями, даже
не подозревают о повороте,
происходящем
в наше время в западном мироощущении,—
по
меньшей мере на один квадрант4.
Вот почему я считаю необходимым уже в
этой первой лекции дать предварительный
набросок того, что составляет, по моему
мнению, главную тему нашего времени.
Как
получилось, что она почти совсем
неизвестна? В беседе
о политике
с кем-нибудь из «передовых», «радикальных»,
«прогрес- систских» сверстников —
возьмем наилучший случай — неизбежно
возникают разногласия. Собеседник
полагает, что это разногласия по поводу
таких материй, как правительство и
государство, что они носят характер
политических расхождений. Но это ошибка:
наши политические несогласия вторичны
и они были бы лишены какой-либо значимости,
если только не представляли собой
поверхностных проявлений куда более
глубоких противоречий. Нас разделяют
не столько политика, сколько сами
принципы мышления и чувствования.
Прежде правовых доктрин нас отодвигают
друг от друга различные биология,
физика, философия истории, этика и
логика. Политическая позиция таких
современников есть следствие неких
идей, полученных всеми нами от наших
учителей. Это идеи, властвовавшие
где-нибудь в 1890 г. Почему они удовлетворялись
подтверждением полученных идей, несмотря
на то, что неоднократно замечали
несовпадение этих идей со своей
спонтанностью? Они предпочитают службу
без веры, под выцветшими знаменами,
многотрудному пересмотру полученных
принципов, соотнесению их со своим
внутренним чувством. И неважно, либералы
они или реакционеры, отсталыми они
являются в обоих случаях. Судьба нашего
поколения не в том, чтобы быть либералом
или реакционером, а именно в отсутствии
интереса к этой устарелой дилемме.
Недопустимо,
что личности, уже в силу уровня своего
интеллекта обязанные принять
ответственность за наше время, живут
подобно черни, плывут по течению
поверхностных сиюминутных перемен,
оставив поиск точной и свободной
ориентации в ходе истории. Ибо история
— это не чистая игра случая, недоступная
какому бы то ни было предвидению.
Конечно, предсказать единичные
события завтрашнего дня невозможно,
по такого рода предсказания и не
представляют подлинного интереса.
Напротив, вполне возможно предвидеть
типический смысл ближайшего будущего,
предвосхитить общие очертания грядущей
эпохи. Иначе говоря, во всякую эпоху
свершаются тысячи непредвидимых
случайностей, но сама эпоха не случайна,
она обладает устойчивой и недвусмысленной
внутренней связностью. Так же как и в
случае индивидуальных судеб: никто не
знает, что с ним случится завтра, но
известны его характер, стремления,
энергия, а тем са
8
мым
и стиль его реагирования на эти
случайности. Каждая жизнь вращается
по своей нормальной предустановленной
орбите, случай привносит в нее возмущения
и отклонения, не искажая ее по существу.
В
истории возможно пророчество. Более
того, история ровно настолько является
научной деятельностью, насколько она
делает возможным пророчество. Когда
Шлегель заявил, что историк — это
пророк, обращенный к прошлому5,
он высказал идею столь же глубокую,
сколь и верную.
Интерпретация
жизни, данная античным человеком, строго
говоря, аннулирует историю. Существование
для него заключалось в круговороте
вещей. Историческими событиями были
внешние случайности, последовательно
обрушивающиеся то на данного индивида,
то на этот народ. Гениальные произведения,
финансовые кризисы, политические
перемены, войны были явлениями одного
типа, символом которых мог бы стать
кирпич, падающий на голову пешеходу.
Исторический процесс предстает в виде
серии бессмысленных превратностей
судьбы, не знающих никакого закона.
Историческая наука в таком случае
невозможна — ведь наука возможна
только там, где существует какой-то
закон, который можно открыть, нечто
осмысленное, а потому и доступное
пониманию.
Но
жизнь не является внешним процессом
простого прибавления случайностей.
Жизнь — это серия фактов, управляемых
законом. Когда мы сажаем в землю семя
какого-нибудь дерева, то предвидим и
весь нормальный ход его существования.
Мы не в состоянии предвидеть, что его
скосит метнувшийся из тучи ятаган
молнии, но мы знаем, что из семени черешни
не вырастет крона тополя. Точно так же
народ Рима представлял собой определенную
совокупность тенденций, постепенно
развивавшихся во времени. Каждая
ступень этого развития готовила
последующую. Человеческая жизнь — это
процесс внутреннего развития, важнейшие
события не приходят в пего извне, не
валятся на субъекта — индивида или
народ,— но произрастают из него, как
цветок и плод из семени. Действительно,
делом случая было то, что в I в. до P.
X. жил
столь гениальный человек, как Цезарь.
Но то, что блестяще исполнил по мере
своей гениальности Цезарь, сделали бы
без такого блеска и полноты другие
10—12 человек, чьи имена нам знакомы.
Римлянин II в. до P.
X. не мог
предвидеть уникальной судьбы, выпавшей
на долю Цезаря, но он мог пророчествовать,
что I в. будет «цезаристской» эпохой.
Под тем или иным именем «цезаризм» был
формой публичной жизни, подготавливавшейся
со времени Гракхов. Катон вполне ясно
предсказывал судьбы этого близкого
для него будущего 2*.
2*
Если бы кто-нибудь взял на себя труд
собрать данные об истории исторических
пророчеств, то сразу обнаружил бы, не
прибегая к пространным исследованиям,
что пророчество было нормой, что почти
каждый новый этап с изумительной
точностью прогнозировался предшествующим.
В подготавливаемой к публикации работе
я приведу несколько тому доказательств,
но я настаиваю на очевидности данного
факта — такой очевидности, что
удивляет отсутствие ее широкого
признания6.
Именно
потому, что человеческое существование
является жизнью, т. е. процессом,
подчиненным закону внутреннего
развития, становится возможной
историческая наука. В конечном счете
наука есть усилие понять нечто. Мы
понимаем ситуацию исторически, когда
видим, как она с необходимостью
проистекает из предшествующей. Какого
рода необходимостью — физической,
математической, логической? Ничего
подобного; с необходимостью, которая
сопоставима с вышеупомянутыми, но
специфична — психологической
необходимостью. Когда нам рассказывают,
что честный человек Петр убил своего
соседа, а затем мы узнаем, что сосед
обесчестил его дочь, то акт убийства
нам вполне понятен. Понимание основывается
на том, что мы видим, как одно проистекает
из другого — месть из бесчестия,—
недвусмысленная траектория, сравнимая
по очевидности с истинами математики.
Зная о бесчестном деянии, мы еще до
преступления могли бы с такой же
очевидностью предсказать, что Петр
убьет своего соседа. В данном случае
мы со всею ясностью видим, как при
предсказании будущего используется
та же интеллектуальная операция, что
и при понимании прошлого. В обоих
направлениях, назад или вперед, мы
обнаруживаем одну и ту же очевидную
психологическую кривую, подобно
тому как по части арки мы без колебаний
восстанавливаем ее целостную форму.
Поэтому не кажется авантюристическим
предшествующее утверждение, согласно
которому историческая наука возможна
ровно настолько, насколько возможно
пророчество. Вместе с совершенствованием
исторического чутья растет и способность
к предвидению 3*.
Оставим,
однако, все второстепенные вопросы,
предполагаемые при тщательном изложении
этой мысли. Ограничимся возможностью
предвидения ближайшего будущего: как
оно осуществляется?
Ближайшее
будущее, очевидно, порождается нами и
заключается в продолжении существенного,
а не произвольного, нормального, а
не случайного в нас самих. Строго говоря,
было бы достаточно углубиться в свою
душу, и, исключив все относимое к чисто
индивидуальным стремлениям, предпочтениям,
предрассудкам или желаниям, провести
в будущее линии наших сущностных
желаний и тенденций, чтобы увидеть, как
они соединяются в каком-то типе
жизни. Но я понимаю, что эта кажущаяся
столь простой операция вовсе не проста
для того, кто не приучен к строгости и
точности психологического анализа.
Действительно, такое самокопание
непривычно — человек сформировался в
борь
3*
Понятно, что это учение о возможности
предвосхищения будущего едва ли связано
с недавно обнародованным «историческим
профетизмом» Шпенглера. Он оснонывает
свой нрофетизм на внешнем созерцании
исторических жизней, на интуитивном
сравнении форм жизни, или морфологии.
Я
придерживаюсь противоположной точки
зрения: исторический прогноз возможен
только изнутри жизни, а не путем сравнения
ее с другими жизнями. Сравнительный
метод морфологии в моей концепции
играет лишь вспомогательную роль; кроме
того, речь идет об иного рода сравнении7.
10
